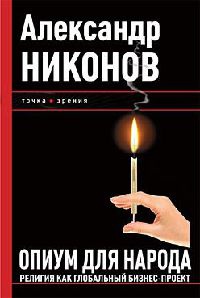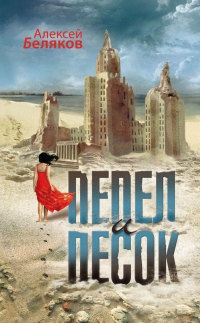Книга Религия бешеных - Екатерина Рысь
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Через несколько дней их обоих закроют. Надолго… Их почти всех скоро закроют…
Вот вам портрет настоящего нацбола…
Соловей открыл нам дверь деревянного дома, вырисовываясь лишь силуэтом на фоне полутемного коридора. Оранжевый отраженный свет из кухни за его спиной только фрагментами вырывал из черноты его лицо. Я из-за голов неясно различала лишь то, что оно как-то непоправимо изменилось. Опухоль, шрамы…
В темноте он только взглянул на меня — и медленно побрел обратно на кухню. Теперь у него были абсолютно старческие движения, замедленные донельзя. Он передвигался, чуть склонившись вперед, касаясь правой рукой стены. Как будто его ударили под дых, и он больше не разогнулся. Полусогнутая левая выдавала неосознанное желание прижать руку к животу. «Отчего дрожит рука, что за странная походка?..» Он влачился, теперь уже совсем по-стариковски осторожно переставляя ноги.
Не быть бабой… Что угодно, только не быть бабой…
Это была единственная мысль, оледенело стоявшая у меня в голове всю дорогу сюда. Почти спасительная, потому что не позволяла потерять над собой контроль ни на секунду. Теперь я смотрела на него оцепенев. Он не выносит проявления эмоций. Вообще никак. Никаких. Любое слово, любой жест будут нестерпимо лишними. Он не позволяет над собой даже плакать… И потому — ни звука, ни вздоха. Ни движения головы… Окоченеть… Я, черт возьми, с достоинством выдержу марку… свою собственную марку…
Я вошла на кухню последней, когда все уже расселись. Просто оттягивала момент. Я не знала, как он поведет себя со мной. Я боялась… Опустилась на выдвинутую из угла тумбочку, единственное свободное место, за спинами людей, облепивших стол.
И оказалась прямо напротив него. И примерзла взглядом к его лицу…
Он не говорил, что я не имею права еще и смотреть на него. Последнее, чего он меня еще не лишил, — это зрение…
И мои глаза медленно считывали со страшного лица человека, сидящего напротив меня в мутно-темном углу уютной кухни, то, что попытались сделать с моей любовью…
Та опухоль, что была сейчас, — я понимала, что это уже просто остатки. Но шрам — шрам перекроил все лицо. Изрытый шрам слева от переносицы на лбу — и сама переносица, грубо свезенная вправо…
Он сидел, опустив лицо, и тяжело, физически тяжело и страшно медленно поднимал глаза откуда-то из черного провала подо лбом с бугристым бордовым шрамом. Мутное освещение слишком резко рубило лицо на свет и тени. Загоняя глаза с кругами синяков уже действительно куда-то в черноту…
«Чудовище-красавец» Соловей, сверлящий взгляд, идеальный прямой нос… Я смотрела на своего — и не своего — изуродованного мужчину, провалившись в небытие, превратившись в один остановившийся горящий взгляд. И во мне медленно каменела и наливалась чернотой единственная мысль: СЕРЕЖА, КТО?.. КТО? Назови мне имя. Если ты сам назовешь мне имя, я восприму это как приказ к действию…
Достали водку, кто-то нарыл на дне рюкзака пачку подтаявшего масла. Двигаясь, как под толщей воды, я механически встала к столу делать бутерброды… И не смогла эту пачку открыть. Это оказалось выше моих сил: подцепить ножом мягкую бумагу и отогнуть. Несколько раз я в глухом отчаянии роняла нож на стол. Рук у меня просто не было…
Потом я исправно и ненавязчиво через стол подсовывала ему под руку все-таки изготовленные бутерброды. Так же ненавязчиво и неуловимо выудила из его пальцев сигарету, когда он оглянулся в тщетных поисках спичек. И потом неизменно поджигала его сигареты от огня плиты.
Я поймала его на еще одном новом жесте: медленно складывать вместе ладони с чуть выгнутыми наружу пальцами, как будто чуть сжимаешь попавший между ними воздух, при этом настолько уйдя в себя, что не замечаешь, что вообще делаешь какое-то движение руками. У него теперь очень замедленные движения…
Только войдя, я молча достала из сумки газету с моей статьей о нем и молча подала ему. Как трофей, как убитого в его честь зверя… Чуть ли не по-самурайски, двумя руками: как меч для моей собственной казни… Как санкцию на право находиться сейчас здесь…
Он молча взял — и углубился в чтение. И я незаметно для себя самой начала постепенно оттаивать. Наблюдая, как он прочел, встал, убрал газету на шкаф, сел, выпил, встал, достал газету, сел, развернул, прочитал… И так раз шесть.
— Спасибо… — поднял он на меня свой жуткий медленный взгляд из-под опухшего уродливого шрама. Первое слово за весь вечер. Высшая оценка. Я не шелохнулась с отрешенностью самурая, неотрывно испепеляющего глазами своего господина…
— Катя, пойдем…
Я и не знала, что самурай может быть вознагражден так баснословно щедро. До тех пор пока мой хозяин, проходя мимо, вдруг не взял меня за руку…
Если кто-то в тот вечер наблюдал за нами — и что-нибудь понимал, он наверняка тихо фигел от стиля общения этих двух непоправимо близких людей. Внешне ледяного — и неистово клокочущего внутри…
Мы на окраине ночи, в маленькой жаркой темной комнате — робкое свечение от снега, щедрого моря снега за окном. Разреженный мрак деревянного дома — цвета темного янтаря…
Ночь — это тишина, ночь — это неподвижный снег. Ночь — это вдруг легшее в ладони тело зверя. Такое ранимо-теплое в моих руках… Такое мое… Его покалеченное лицо, почти неразличимое в темноте. Он так доверчиво касался лбом моего лица. Как будто знал, что я даже в этой тьме не наврежу ему нечаянным жестом…
…Как мало надо, чтобы меня накрыло с головой, чтобы меня захлестнула волна счастья. Того счастья, что зовется отчаянием… Вот эта острая боль, эта опустошающая нежность, это гибельное желание спасти, защитить, заслонить, обжигая слезами… Это все и есть — эта безнадежная, гиблая, убийственная Любовь. Капкан.
Из него уже не рванешься. Не стряхнешь наваждение, как дурной секундный сон. Капкан такой любви от себя можно отсечь только вместе с сердцем…
Такого еще не было, вообще не было. Я поразилась произошедшей в нем перемене. Казалось, я была принята им, допущена в его жизнь, я входила туда по непререкаемому праву. Было очень похоже на то…
— Любимый зверь…
Я скользнула к нему гибкой настороженной тенью, обожглась о его кожу, прикипела к ней. Спрятала лицо на плече «самого прекрасного, самого чудовищного» мужчины. Где-то там, в темноте, терялся его все равно самый красивый, самый гордый, «самый нежный, самый чудовищный» профиль. Скрытая от глаз улыбка блуждала по губам. Мой любимый человек, мой любимый зверь, сейчас, в эту минуту — совсем, совсем мой… Хватило одного прикосновения, невероятной возможности просто еще раз коснуться, обжечься ладонями о его кожу… Вот она, Любовь…
…Зверь упрямо отвернулся в свой угол, ушел в свой обособленный сон, как в берлогу, положенную каждому порядочному зверю. Предоставленная своему счастью, я кожей впитывала обжигающе жаркую темноту роскошной ночи. И, лаская ресницами сон, я единственно верным неосознанным движением обхватила его рукой, прочно завладела своим зверем, как темнота, как вторая кожа. Жар его тела безраздельно принадлежал уже царству другого, торжествующе-расслабленного зверя…