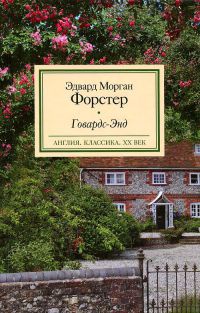Книга Буддист - Доди Беллами
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
* * *
18/10/10
От сердца к сердцу
Сегодня утром приснился буддист. Сон был яркий и глубокий, больше похожий на явление. Я подскочила в шесть утра, не понимая, что со мной произошло. Из-за этого я снова почувствовала связь с ним, вернее, остро ощутила отсутствие этой связи, болезненное, иррациональное чувство тоски, не имеющее отношения ни к приятным воспоминаниям о нем, ни к желанию, – просто тупая пустота. Чувство преследовало меня всё утро, пока я готовилась к занятиям, никуда не делось оно и пока я преподавала с четырех до семи, занятия прошли хорошо, а когда я вернулась домой около половины восьмого, чувство тоски разрослось до такой степени, что я не понимала, связано ли оно вообще с буддистом – был ли он проводником этого чувства, или же я связывала их по привычке; я провалилась в еще более глубинную пустоту, ту первородную пустоту, что скрыта внутри каждого, вот только моя почему-то всплыла на поверхность. Кевин лежал в кровати, так что я забралась к нему и попросила его поговорить со мной, о чем угодно. Он рассказал мне о том, как прошел его день, как он загружен из-за дедлайнов и т. д., рассмешил меня и добавил, что ему помогает говорить со мной, я взяла его руку, положила ее на свою чакру сердца и крепко прижала. Тепло его руки просачивалось вниз, в пустоту, успокаивая ее, и раз уж мы так хорошо разлеглись, слово за слово… в интернете подробно не напишешь…
Позже, когда мы размякли в состоянии «ух, что это было!», Кевин сказал, что чувствует, как у него открывается сутра сердца, а я ответила, что это не сутра, а чакра; сутра сердца – это, помнишь, когда умер Стивен Эбботт и мы пошли на поминки в Дзен-центр на Хартфорд-стрит, Филип Уэйлен бубнил жуткое «всё ничто, и ты ничто» – вот это сутра сердца. Кевин сказал, что как бы это ни называлось, он хочет сохранить эту открытость. Я спросила, испытывает ли он океаническое чувство. Он покачал головой: нет, это чувство сдержаннее, больше похоже на лагуну.
* Возвышенное страдание *
21/10/10
В мою защиту
Сегодня вечером читала блог женской половины недавно расставшейся пары поэтов. Она пишет: «В нашем последнем (возможно, последнем в жизни) телефонном разговоре Дж. сказал, что не хочет, чтобы я вела себя как Доди, чтобы я относилась к нашим отношениям так, как Доди относится к своим». Думаю, он имел в виду то, что я пишу здесь о буддисте. Открыться или нет – ключевой вопрос для многих писателей. Проблема тех женщин, что не страдают на публике, повинуясь требованию держать язык за зубами, когда речь заходит о личной драме, например о расставании, напрямую связана с многовековой историей угнетения: виктимизацией в литературе, невозможностью признаться в изнасиловании или инцесте (разумеется, я не имею в виду, что моя нынешняя ситуация может сравниться с насилием такого рода), возвращением к идее, что домашнее пространство – сфера личного, что не дóлжно выметать сор из избы, и за всем этим стоит представление о том, что женщина принадлежит своему мужу, а потому ей следует держать хлебало закрытым, все эти мещанские идеи о страдании с достоинством да и само понятие достоинства – вот уж действительно угнетающая ценность! Предательство (обычно) происходит за закрытыми дверями, следовательно, само по себе предательство – меньший грех в глазах буржуа, нежели разговоры о нем. По понятиям моей родни – работяг из «ржавого пояса», – если кто-то предал тебя, ты рассказываешь всем вокруг, что этот ублюдок с тобой сделал, ругаешься, жестикулируешь и вопишь, и это не зазорно. Наоборот, к тебе и твоей эмоциональной ноше отнесутся с восхищением – рабочий класс уважает гнев, – окружающие присоединятся к твоей ярости, дадут прикурить и поддакнут, дескать, этот сукин сын тебя не заслужил. Представьте ярость Анны Маньяни, когда Росселлини ушел от нее к Ингрид Бергман. Neo realismo!
Всё это время я хотела, чтобы моя болтовня о потере и предательстве стала способом отточить и продвинуть некое политическое/эстетическое высказывание. Когда я пишу здесь о буддисте, я признаю, что в этом есть некий пассивно-агрессивный (граничащий с просто агрессивным) посыл. Я дала ему множество шансов избежать вражды между нами, но буддист остался равнодушным и снисходительным, так что в какой-то момент я подумала, нахуй всё это, ведь в контексте моего писательства решение не писать о нем – всё равно что оставаться ему верной, а он не заслужил моей верности. Чтобы порвать с ним, я должна совершить акт вероломства. Окей, признаю, в этом нет особого смысла. Но в каком-то смысле я осталась ему верной: я не писала о нем ничего такого, что не касалось бы меня напрямую – я сохранила его анонимность, умолчала о деталях, по которым умные читатели могли бы установить его личность, – я не писала, где он живет, чем занимается, какому течению буддизма следует, я не упоминала ни его имени, ни даже инициалов. Я не стала вдаваться в подробности каждого ранившего меня поступка – хотя бы потому, что мне бы это быстро наскучило, а письмо есть письмо – ты делаешь всё возможное ради результата, даже опускаешь детали, к которым привязана, если считаешь, что они портят текст. Иными словами, я принимала эстетические решения на каждом этапе, и я старалась это подчеркивать. Я ясно дала понять, что в наших отношениях было много ценного, что он дарил мне удовольствие и ласку. Я