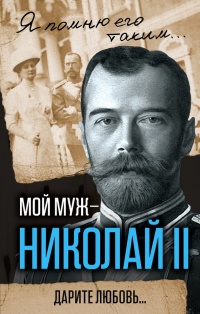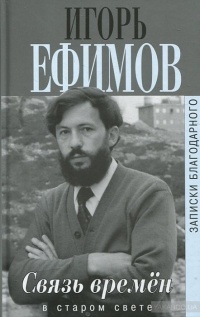Книга Абу Нувас - Бетси Шидфар
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Эй, сын греха, что ты смотришь на повелителя правоверных?! — крикнул Амин.
— Клянусь Аллахом, о великий эмир, я никогда не видел такой вышивки. Даже у твоего родителя, да упокоит его Аллах Своей милостью, не было такой одежды.
Амин поднял брови и поманил слугу:
— Подайте мне другую одежду, а на Ибн Мухарика наденьте мою джуббу!
Слуга выполнил приказ халифа, и Ибн Мухарик, довольный, сел, поглаживая белый атлас.
Когда Амин надел другую джуббу, на этот раз жемчужно-серого цвета, он поднял голову. Видно, ему показалось, что Ибн Мухарик снова смотрит на него. Поэтому он снял и новый наряд, и приказал надеть на Ибн Мухарика поверх первого.
— Это добром не кончится, — шепнул Хасан Ибн Мухарику, вытиравшему лоб, — он вспотел и от жары, и от страха.
А у халифа кривились губы — верный признак того, что он разгневан. Несчастный Ибн Мухарик потел уже в пяти джуббах и не осмеливался протестовать. Вдруг Амин крикнул:
— Эй, скажите на кухне, чтобы нам подали бараньих ножек в подливке, пожирнее и погорячее.
Хасан и все присутствующие, будто сговорившись, облегченно вздохнули — наконец гнев эмира прошел. Но Амин как-то искоса взглянул на Ибн Мухарика, и Хасан понял: тому не миновать беды.
Повар внес дымящееся блюдо с бараньими ножками в подливе и, когда он проходил мимо Ибн Мухарика, Амин, привстал и толкнул повара под руку. Жирная подлива полилась на пол, забрызгала Ибн Мухарика, его платье пропиталось жиром. Он испуганно подобрал ноги, вскочил, стряхивая с себя жидкость и горячие бараньи ножки. А халиф смеялся, всхлипывая и вытирая слезу:
— Эй, Ибн Мухарик, как тебе нравится теперь твое новое платье? А этому слуге, что не почитает собеседников повелителя правоверных, дать десять плетей за неловкость!
Ибн Мухарик одну за одной снял все джуббы. Его собственная одежда тоже была испорчена. Обратившись к Хасану, все еще смеявшийся Амин сказал:
— А теперь, Абу Али, сложи на этого глупца стихи, чтобы нам запомнить сегодняшний день!
«Я уже стал шутом, вроде Ибн Абу Марьям», — подумал Хасан. Но мысль только промелькнула, уступив место хмельному веселью:
— Сейчас я скажу эмиру стихи, которые сложил о его собеседнике:
У меня есть друг тяжелее, чем гора Оход,
Нет тяжелее труда, чем жить с ним.
На его лице знак тупости,
Появившийся на нем еще с тех пор, как он был в колыбели,
Если бы он попал в ад, весь жар геенны бы потух
И все, находящиеся там, умерли бы от холода.
Амин смеялся долго, морщины на его лице расправились, и поэт хохотал вместе с ним, радуясь, что халиф больше не гневается и никому не угрожает опасность, по крайней мере в ближайшее время.
Амин встал и, покачиваясь, вышел. Ибн Мухарик, наклонившись к Хасану, прошептал:
— Я не могу больше, у меня будто огонь в животе от красного вина.
— Погоди, — успокоил его Хасан, — я вылечу твою хворь.
Когда халиф вернулся, поэт громко засмеялся.
— Над чем ты смеешься, Абу Али? — подозрительно спросил халиф.
— Я смеюсь на тем, повелитель правоверных, что Ибн Мухарик не терпит вкуса и запаха арбузов и, когда видит его, у него начинаются колики в кишках.
Халиф с интересом посмотрел на Ибн Мухарика:
— Это правда?
Тот кивнул. Амин широко улыбнулся:
— Клянусь Аллахом, я никогда еще не видел такого. Эй, Ибн Мухарик, если съешь арбуз, я отдам тебе все ковры и всю утварь из этой комнаты!
Ибн Мухарик сделал испуганное лицо:
— Повелитель правоверных, не убивай меня, — заныл он, делая вид, что его тошнит.
Но Амин крикнул:
— Эй, принесите два арбуза!
Слуги разрезали арбуз, а Ибн Мухарик дергался, притворяясь, что испытывает нестерпимые боли в животе. Потом Амин приказал держать его за руки и вкладывать в рот куски арбуза. Ибн Мухарик давился, арбузный сок залил бороду и одежду. Затем халиф приказал слугам разрезать второй арбуз и кричал, захлебываясь смехом:
— Съешь еще один арбуз, и я отдам тебе всю утварь из второй комнаты.
Внезапно Хасана затошнило, и он еле удержался от рвоты. Ему стал противен залитый арбузным соком и жиром Ибн Мухарик, а Амин, крупные и очень белые зубы которого блестели в широко открытом рту, походил на одного из постоянно голодных львов, содержавшихся во рву, забранном решеткой.
Пошатываясь, он поднялся и, держась за стены, вышел в сад. Прохладный ночной воздух сразу отрезвил его, и он долго стоял, наслаждаясь чистотой ясного ночного неба. Из покоев Амина донесся шум, в сад вышли слуги с тюками и скатанными коврами на плечах: «Переносят ковры в дом Ибн Мухарика». Хасан позавидовал — он и сам не прочь получить такие ковры.
— Но не такой ценой, — сказал он громко и тут же подумал: «А чем лучше я сам? Разве я не такой же шут этого бешеного толстощекого мальчишки?»
Из покоев Амина доносились теперь звуки лютни и голоса певиц. Хасан обошел здание и заглянул внутрь. На возвышении, покрытом парчовым ковром, сидели десять девушек-невольниц, певицы и лютнистки халифа. Ибрахим что-то говорил старшей. Запели сложенную им песню, слова для которой он взял у древнего поэта… Потом они вышли, и их место заняли еще десять девушек. Хасан подумал: «Эта забава не кончится до утра, моего отсутствия никто не заметит».
Он с трудом растолкал псарей — они улеглись после утомительной охоты:
— Выспитесь завтра, а сейчас возвращаемся домой.
Слуги вскочили.
— Господин мой, — сказал один, — у нас случилось несчастье: Быстрого укусила змея, и он околел.
— Что же ты, сын греха, не смог уберечь пса, который стоит десятерых таких, как ты, по крайней мере по разуму! — разозлился Хасан и хотел было ударить слугу, но вспомнил Амина и опустил руку.
— Где пес?
— Мы закопали его в саду.
— Отведите меня на это место, и я сложу стихи в его честь.
Слуги переглянусь:
— Слушаем, господин.
Хасан шел за ними по кипарисовой аллее. Чья-то собака бросилась ему под ноги и, испуганно взвизгнув, отскочила.
— Эй, стойте! — крикнул он вдруг слугам. — Не все ли равно, где я сложу свои строки?
И, подняв руку, как во время чтения торжественного мадха, начал:
— Я оплакиваю лучшего из псов, унесенного жестокой судьбой…
Стихи приносили облегчение, казалось, он очищается от шутовства, мелкой зависти, злобы — всех тех чувств, которые овладевают каждым в халифских покоях даже помимо его воли. Сейчас ему казалось странным, как он может так долго терпеть этих людей. Ведь он не раз говорил друзьям: «Во дворце я чувствую себя точно на горящих углях».