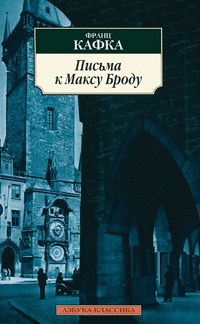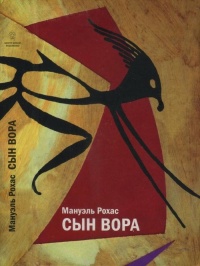Книга Птицы и гнезда. На Быстрянке. Смятение - Янка Брыль
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Антоно́вич говорил, что те трое, из вашей, братко, компании, утекли. Крушина, Печка и еще один. Ей-богу, братко, не помню, кто… Потом и мы пошли с Антоновичем…»
Вот и все.
Мало о товарищах знает и Алесь. Впрочем, и мало и много.
Бутрым умер в лагере. Зимой, под сорок первый год. Всего и вестей принес его женке земляк, которому удалось бежать.
Руневич сам побывал в прошлом году в той несвижской деревеньке, по которой тужил когда-то Владик. Видел Зосю его, что совсем слиняла на вдовьих хлебах. Видел и мальчика — он ни слова не вымолвил, черноногий свиной пастушок, только глядел на дядьку партизана исподлобья. Старик Бутрым помер, не успев услышать о смерти сына…
Крушина и Мозолек в партизанах. Прошлым годом шли оттуда, из Липечанской пущи, хлопцы на связь, за фронт, — рассказали. Сергей, елки мохнатые, уже и стихи печатает в газете. Недавно Алесь сам видел. И радостно и завидно… Он-то ведь еще все только «богатеет», «накапливает». А как же тянет его… Нет, не к стихам, а к прозе. К суровой, радостной, сильной, тревожной — как сама жизнь. А Мозолек — интересно, кто он теперь: подрывник, пехотинец, разведчик?.. Про Тройного Мартына, Печку и Непорецкого ничего не слыхать. Где они? Как там Янкель, с его неутешной тревогой?.. Кто ж это третий бежал тогда с Сергеем и Печкой?.. Хоть бы услышать что-нибудь еще! Или самому голос подать!.. Испытание разлукой? Как с Толей?.. Слишком их много, этих разлук!..
— Ты слышал?.. Ты слышишь, Алесь?
— Что? — оторвался от своих мыслей Руневич.
— Вверху. Слушай… Во!..
Где-то высоко над ними, кажется — над тьмой, послышался гогот. Как и раньше, тревожный. Спасаются от погони? Догоняют? Радость это или страх?
— Дикие гуси, братко! Тоже куда-то спешат. Весна… Что ж, каждому свое…
Руневич придержал коня. Даже голову поднял — так заслушался.
— Ваши поехали, Алесь. Бегом. Гляди, братко, и ты… Увидимся еще, коли живы будем…
— Бывай, Змитрук! Увидимся!..
…Дорога стала тверже. Конь, чуть тронутый поводьями, пошел спорой рысью. Вдогонку своим выносливым четвероногим друзьям. Они уже скрылись впереди — в многолюдной, молчаливой, настороженной тьме. Между двумя цепочками пехоты…
«Пошевеливай, Черный, — мой новый, славный, еще не заезженный конь!.. Не знаю, чье поле не выедешь ты этой весною пахать, что за человек по темноте своей ругает меня, незнакомого партизана, который приехал и взял тебя от колоды, оставив там твоего предшественника… Неведомо и более важное, друг. Чья завтра мать заплачет, а кого закопают и так, под залп нестройного салюта. После речи нашего Ивина…
Многим из хлопцев, мимо которых мы проезжаем, неизвестно, — не по догадкам, а точно, — куда мы теперь, как задумана эта ночь. А мы, разведчики, знаем всё…»
Алесь ясно представил губастое, крупное, чернобровое лицо комбрига Ивина.
Пришлось бы ему говорить речь, так он сто раз запутался бы в своих «который»: «Фашист, который должен чувствовать, подлец, что партизан, народный мститель, который…» Если б готовиться к этой речи или сидеть на бюро, на простецком лице Александра Ивановича отражалась бы, как Костя говорит, «партийно-государственная озабоченность»… А перед боем, перед делом, Ивин становился таким, каким его ребята любят, — смелым, умным, человечным командиром.
И часто Руневичу вспоминалось, что их комбриг не просто кадровый офицер, капитан. Ему тоже не повезло: окруженец. Организовывал в деревне отряд, был арестован. Бежал из-под расстрела. От самой ямы. Со связанными телефонным проводом руками. Это могло бы показаться легендой, если б не произошло недалеко отсюда, в местечке, если б не было людей, которые сами видели, как он бежал под пулями к лесу, которые сами развязывали ему руки…
Сегодня бригада идет наконец на это местечко, на этот «прославленный», «неприступный» гарнизон. На арийских «фогелей», плюгавых «бобиков» и торгашей-«безменов», что окопались, огородились здесь, на нашей земле, — какая нелепость! — они, мол, один из опорных пунктов гитлеризма…
«Правду, от народа идущую правду, на свой лад просто высказал Змитрук: «Тут — что ни немец, то гад». И я в Германии видел немцев — и нелюдей и людей. Здесь мы видим фашиста — захватчика, убийцу, грабителя, и он отсюда не должен вернуться.
Ивин, например, хорошо это понимает».
В штабной землянке, где комбриг проводил сегодня оперативное совещание, он говорил без «который», коротко и ясно.
— Теперь — разведка. Руневич и Дайлидёнок проберутся на кладбище и принесут от связного полицая их пароль. Вербицкий поведет первую группу. Снимать посты. Тихонов и остальные остаются при мне. Местным разрешаю заехать переодеться. Ну, и своих повидать… Всё.
«Покуда ясно всё. Пошевеливай, Черный, — мы отстаем!..»
1942—1944;
1962—1964
НА БЫСТРЯНКЕ
Повесть
В. А. Колеснику
Плоскодонка — их и в этих краях называют чайками — с утра стояла в тихой заводи Быстрянки, под старой вербой, на замке.
В отдалении, вверх по речке, слышны были детские голоса и плеск воды. А здесь, в затишье, чуть заметно покачивались на воде белые цветы, нежно, должно быть девичьими устами, названные гу́сочками, — лилии на темно-зеленых тарелках листьев. Берег напротив, ярко освещенный солнцем, высокий, обрывистый, был весь изрыт пещерками; вокруг них с оживленным щебетом озабоченно носились стрижи.
По тропинке из деревни, огороды, деревья и хаты которой видны с высокого берега, в полдень пришел парень. Без рубахи, загорелый, босой и с плотно набитым дорожным мешком. Кинув в лодку тонкий, отполированный руками шест, он положил туда же мешок, закатал до колен штаны, отвязал чайку от вербы и столкнул ее на воду.
— Поехали, — вслух подумал он, стоя на корме и шестом направляя лодку по течению. — Поехали, — повторил он громко и улыбнулся, откидывая левой рукой падающие на лоб непослушные пряди светлых волос.
Расколыхав на прощанье гу́сочек и их большие плавучие листья, чайка пошла по стрежню живой, извилистой Быстрянки.
В деревне Потреба, из которой он только что пришел, парня сызмалу называли Ганулин Толик. Потом, когда он уехал в Минск учиться и вместе со студентами-односельчанами стал приезжать на каникулы, ему и от старших случалось уже слышать солидное — Анатолий Петрович. Для друзей и подружек, и дома и в городе, он — Толя, веселый и компанейский Толя Климёнок.
Этим летом Толя перешел на четвертый курс литературного отделения университета. Дома, в деревне, где у него остался только старший женатый брат Кастусь, он косил с мужчинами, с молодежью танцевал до упаду в новом клубе, а ночью тайком писал. Один его очерк на днях был напечатан — ни много ни мало — в республиканской газете,