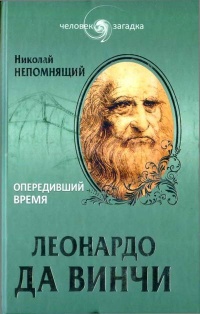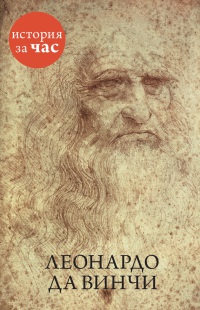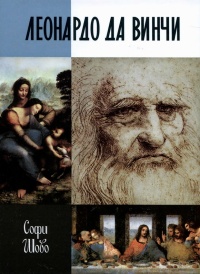Книга Образы Италии - Павел Павлович Муратов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
По мнению Беренсона, Перуджино был величайшим мастером в искусстве пространственной композиции. Чувство пространства, инстинкт свободного размещения в нем фигур, умение подчинять частности общему замыслу были прирожденными свойствами таланта Перуджино. Достаточным доказательством того могут служить его фреска в упраздненном флорентийском монастыре Санта-Мария Маддалена де Пацци и замечательные пределлы алтарного образа в Фано. В этом отношении Перуджино был редким исключением из числа художников кватроченто. Его искусство предсказывало чинквеченто и Рафаэля. Переходя в станцы, обозреватель Ватикана чувствует себя в мире, далеком от миров, созданных художниками XV века, но не совсем незнакомом для того, кто уже видел Сикстинскую фреску Перуджино. Впечатление, испытанное перед «Вручением ключей», повторяется здесь, только с большей чистотой, отстоенностью и какой-то особенной серьезностью. Равновесие композиций Рафаэля более торжественно, ибо приведенные в него формы и замыслы более величественны и широки. Здесь понятна вся строго взвешенная важность искусства чинквеченто, вся его, по выражению Вельфлина, аристократичность. В холодноватой и неподвижной атмосфере созданного Рафаэлем мира нет места для эпизода, для живописной и романтической случайности, которую так любили художники кватроченто. В этом мире нет движения и тепла жизни, и даже человечность, еще присутствующая во фреске Перуджино, уже исчезает в нем. Но душа как-то странно вырастает и окрыляется в этих небольших, в сущности, комнатах, со стен которых чудесным образом веет дыхание безмерного, как океан, пространства.
В станцах Рафаэля путешественник оказывается лицом к лицу с самыми совершенными созданиями золотого века Возрождения. Рафаэль не написал ничего более значительного. Очень характерно, что эти темы так отвлеченны и так далеки от остро индивидуализированных тем Беллини или Джорджоне. Рафаэль выше всего там, где он суммирует какие-то общие человеческие представления. Объективная правильность как-то сразу далась его образам христианской церкви и античной философии. В этой способности его говорить со всеми и обо всем на языке, понятном каждому, Беренсон справедливо полагает главную причину его мировой славы. Искусство Рафаэля особенно легко сделалось достоянием всех европейских народов. Человечество, может быть, впервые почувствовало свое единство, воспитываясь на Рафаэлевых мифах и на Библии Рафаэля. «Он был одарен, – говорит Беренсон, – зрительным воображением, беспримерным по благородству, легкости и здоровой ясности рождаемых им образов». Кристаллическая твердость, с какой резец Маркантонио закрепил в гравюрах принадлежащую Рафаэлю концепцию античного мира, помогла ей навсегда врезаться в память сменяющихся поколений. И библейскую легенду мы с самого детства слышим, рассказываемую на том языке, на котором рассказал ее Рафаэль, так как каждая картинка в школьной книге исходит отдаленно из форм и положений его искусства. Сближением этих образов христианской мифологии с мифологией античной мы также больше, чем какому-либо другому художнику Возрождения, обязаны Рафаэлю. Величайшая культурная роль его та, что он окончательно разлучил христианскую легенду с ее восточной семитической родиной и привел ее к античному дереву. Христианство, рисующееся нам в зрительных образах, это и до сих пор эллинизированное христианство Рафаэля.
Действуя так, Рафаэль исполнял веление духа своей эпохи. Слишком часто он сам кажется каким-то духом – собирательным выражением интеллектуальных способностей и душевных качеств, которые никогда не были облечены в плоть и кровь. После более ощутимых, чем действительная жизнь, индивидуальностей кватроченто художественная личность Рафаэля кажется ускользающей, невесомой и прозрачной тенью. В то мгновение, когда искусство золотого века достигло в станцах своей высшей точки, все индивидуальное в нем исчезло, чтобы уступить место величественному явлению самих формальных законов и теоретических истин искусства. Со стен «Диспута» и «Афинской школы» на нас смотрит совершеннейшее воплощение закона композиции. Чтобы понять всю важность этого закона, достаточно сравнить «Диспут» Рафаэля с фреской треченто на ту же тему, сохранившейся в Capellone di Spagna[113], во флорентийской церкви Санта-Мария Новелла. Художник XIV века оказался совершенно беспомощным перед искусственностью и придуманностью сюжета, он не сумел вложить в него художественный смысл и не пошел далее буквальной иллюстрации теоретического задания. С помощью своего мастерского распределения групп Рафаэль превратил иллюстрацию в картину, на которую можно бесконечно любоваться. Художественная и формальная тема влилась в заданную тему изображения церкви и сделала возможным ее существование в искусстве. Задание явилось только поводом для создания такой самостоятельной художественной ценности, как та чуткая и ритмическая линия, которая создает здесь непрерывную связь между группами, очерчивая одну за другой головы святителей и Отцов Церкви.
На противоположной стене «Афинская школа» показывает, что золотой век искусства был наконец действительно обретен, когда волшебный дар ритмической композиции мог соединиться с благородной и свободной темой. В рассветной чистоте серебристо-серого тона, украшенного кое-где пятнами нежной лазури, перед нами открывается мир величавых человеческих форм и освобожденных от всякого усилия движений. Поразительная легкость всех групп и фигур является первым впечатлением от этой грандиозной композиции. Вглядываясь в нее, начинаешь понимать, что эта легкость достигнута здесь благодаря безупречному чувству пропорций. Не менее удивительно впечатление простора, свободы и царственной широты, особенно когда отдаешь себе отчет, что на фреске изображено свыше пятидесяти больших действующих фигур. Гениальность Рафаэля не умаляется тем обстоятельством, что закон, которому подчинена композиция, может быть точно выражен геометрической фигурой разомкнутого внизу круга. К такой формуле можно привести большинство композиций Рафаэля – она повторяется в «Диспуте» и в «Парнасе». Искусство чинквеченто не скрывало ни тех формальных задач, которые оно себе ставило, ни тех способов, которыми оно умело их разрешать. Оно как бы гордилось тем, что могло ввести зрителя в самый процесс творчества и отдать ему отчет в каждой линии и в каждом отношении частей.
Иной раз кажется, что ради этой формальной отчетливости оно намеренно жертвовало всякой внутренней глубиной, всякой душевной сложностью. Из таких пустых и малозначащих в отдельности человеческих фигур, какие составляют группы «Парнаса», ему было легче возводить свои невесомые постройки.
Важнейшую черту «Афинской школы» составляет написанная на ее фоне архитектура. Едва ли не большая часть очарования, внушаемого названной фреской, приходится на