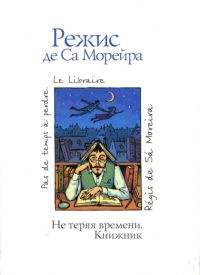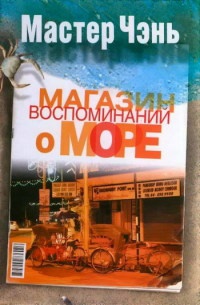Книга Биоген - Давид Ланди
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Женщина останавливается и утирает со щеки старческую слезу.
– Через месяц его в область отправили. Потом не знаю, как у него жизнь сложилась. А три года назад он вдруг объявился. Высокий стал. Выше меня на голову. Или даже на две. Я с работы иду, а он сидит здесь, у ворот в больницу, и курит. Меня увидел – обрадовался. «Баб Маш, – говорит, – займи денег». А у меня зарплата как раз была с собой. Только получила. Я и отдала ему ее. Больше не приезжал. Наверно, в романтику подался…
Закончив уборку, бабуська берет ведро и идет на выход. В дверях она оборачивается:
– А ты, Лешка, не ерепенься здесь! Будь смирным. А то мать твою два раза уже не пустили на свидание. Смотри только, не говори никому, что я тебе про это сказала!
Уходит. На меня наваливается Лешкина тоска, и я понимаю, почему он все время плачет.
С прогулки возвращаются пацаны. Возбужденный Витек подбегает ко мне и выпаливает:
– Леха, представляешь, они все-таки выписали мою Аксану! Твоя Оля рассказала, что врачиха вызвала мать и отправила ее домой. Аксана не хотела уезжать, но медичка стала ей грозить переводом в область, и она ушла. Представляешь? Вот сволочи!
– Но почему сволочи? – интересуюсь я. – Как ни крути, а на воле лучше, чем здесь.
Витек злится:
– Дурак ты! Не понимаешь! Она с матерью все равно жить не будет! Мать мужиков водит, а они к Аксане пристают. Опять у подружек или на чердаке ночевать станет. Хорошо, если еще шалаш наш не разобрали.
– Какой шалаш? – интересуется Давид.
Витек садится на кровать и начинает рассказывать:
– Я в прошлый раз, когда убежал отсюда, жил с Аксаной на чердаке. Днем жарко, конечно. Но мы днем там и не сидели. А ночью хорошо. Лампочка есть, чего еще надо? Я картонных коробок натаскал и шалаш из них сварганил. Картон проволокой связал, чтобы не расползался… Боялись, что жильцы снизу милицию вызовут. Аксана принесла краски и на картонках нарисовала цветы. Классно получилось! Красиво… Ложишься спать, а вокруг цветы. А над ними облака нарисованные, а в чердачном окне – звезды настоящие. Так и жили, пока инспекторша из детской комнаты милиции нас не вычислила… Аксана даже не знала ничего. Я сказал ей, что за арбузом домой сгоняю. Зашел домой, поболтал с матерью, взял арбуз, выхожу на улицу, а там инспекторша с участковым стоят. Я думал, сейчас мне мозги прочистят, как это они обычно делают, и отпустят на все четыре стороны. А они в машину посадили и сюда повезли. Видно, с Адриягой по телефону обо всем заранее договорились.
– Даа… Представляю, как тебя тут встретили, – восхищаюсь я…
– Адрияга приняла меня с распростертыми объятиями. Сразу два укола сульфозина сделала. Один в левую ягодицу, а другой под правую лопатку. Я три дня трупом лежал. Думал, сгорю. А как отошел, она мне опять укол в задницу. И так три раза, через каждые три дня, чтобы я оклематься не успевал. Потом долго тормозил… Когда на прогулку первый раз вышел, не поверил своим глазам – за сеткой Аксана! Она, оказывается, уже неделю как в больнице была. Аксана подошла к забору, взялась за рабицу и стоит плачет, на меня смотрит. А Степаныч, сволочь, за руку меня держит и к сетке не пускает. Будешь, говорит, теперь две недели со мной за руку гулять. Так я две недели и смотрел на Аксану, стоя около Степаныча. А она все это время плакала. Одно время я даже подумывал навернуть санитара стулом по башке, чтобы к Аксане подойти. Но потом, как представил себе, что на это скажет Аксана, и не стал рисковать…
– А чего они ее выписывают все время? – интересуется Тихоня.
– Не хотят в больнице держать, потому что она учится хорошо. Как учебный год начнется, школа искать ее станет. Врачи это знают. А то, что у Аксаны дома все плохо, – этого никто не знает. В школе она не рассказывает. Мать-то ее приедет, заберет домой, а дальше ей плевать, что она делает и где живет. Она сама женихуется всё, гуляет… – Витек сжимает кулаки. – Не дай бог, кто из материных хахалей по пьяни приставать к Аксане станет. Выйду – убью!
– Витя, не переживай, все будет хорошо, – успокаиваю его я Лешкиным голосом.
– Придется, видно, в бега опять пускаться, – вздыхает Витек и ухмыляется: – Выпишусь вместе с Тихоней… – Он заговорщически подмигивает мне (в Лешкином обличье).
– Ты чё, убегать завтра собрался? – спрашивает его Лешка моим голосом.
– Рвану после обеда. Темноты меньше ждать.
Вошедшая медсестра развязывает меня и выгоняет всех на ужин. По дороге в столовую я опять меняюсь с Лешкой сознанием, возвращаясь в свое родное тело. Если честно, в Лешкином уж больно тоскливо. Мысли какие-то дурацкие все время лезут, и плакать хочется. Но спрятанная в палате под подушкой вторая конфета (которую дала мне уборщица) работает, как скрытая камера, передавая всю информацию по наитию свыше, и с помощью телепатии нутром – прямо мне в мозг.
Усаживаясь за стол, третьим глазом я вижу, как в нашу палату вместе со Степанычем заходит Алевтина Андриановна. Отвлекая внимание от римского бивня – пришитое на прежнее место ухо белеет снежным бубоном бинтов на лохматой голове санитара. Врачиха командует:
– Приступайте, Анатолий Степанович!
Санитар начинает обыск. Он осматривает все подушки, матрасы и тумбочки. У Витьки Степаныч находит самодельные карты. Под подушкой у Лешки – мою конфету. Под матрасом Дебила – принесенный с улицы мусор. У Немого – листок, разрисованный странными иероглифами.
Алевтина Андриановна подходит к тумбочке Витька и скрупулезно разглядывает ее со всех сторон. Вынув верхний ящик, она переворачивает его и обнаруживает с обратной стороны спрятанную фотографию Аксаны. Покраснев от возмущения, врач вынимает фото и вставляет ящик назад.
Без фотографии Аксаны ящик упирается и не хочет попадать в пазлы. Врачиха нервничает, крутит в руках настырную деревяшку, толкая ее вперед, но та то застревает, то перекашивается на полпути и соглашается вернуться на прежнее место только после того, как ощущает во взгляде врачихи сульфозиновую угрозу.
– Он еще и фотографию ее сюда притащил! – возмущается Алевтина Адриановна, с грохотом вгоняя ящик на прежнее место. – Мало в женском отделении проблем с этой рыжей бестией – она и здесь хочет присутствовать!
Проверявший тайники за батареей Степаныч встает, отряхая от паутины и пыли руки. Маленький, серый паучок торопится, бежит, усердно работая лохматыми лапками по хлопковой ткани рукава санитара. С ужасом он оглядывается назад и видит всеми своими восьмью глазками надвигающуюся на него лавину волосатых пальцев. Помня пословицу, которую ему говорила в детстве мама – надежда умирает последней, – паучок спешит спасти собственную шкуру, впервые оказавшись в роли беспомощной жертвы сам. Но рука медбрата обрушивается, как топор на плаху революции, и паук оказывается размазанным по полотну белого рукава. Восемь микроскопических глазных яблок падают в бездну палаты, последний раз отражая кружащийся вокруг них мир.
– Тьфу ты черт! – чертыхается Степаныч, глядя на испачканный рукав.