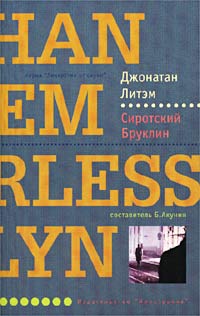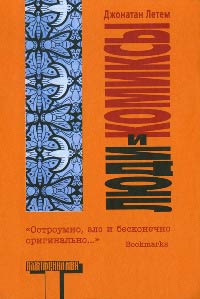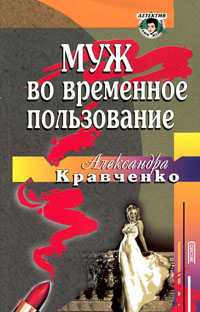Книга Бастион одиночества - Джонатан Летем
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Я не считал.
— По-моему, впервые мне удалось вытянуть тебя на «Лунакон» в Нью-Йорке, в начале восьмидесятых. Ты приехал туда в весьма дурном расположении духа.
— Я не любитель подобных мероприятий, — нехотя признался Авраам.
В зале раздались смешки.
— Может, ты наконец раскроешь публике и другой твой секрет? Скажешь, что книги, которые иллюстрируешь, прочитываешь крайне редко, если вообще никогда?
Аудитория ахнула.
— Я никогда их не читаю, — ответил Авраам. — И отнюдь не извиняюсь сейчас за это. Возьмем, к примеру, первую книгу мистера Вандейна. Как, простите, она называлась?
— «Волнующий цирк», — процедил Р. Фред Вандейн сквозь стиснутые зубы — почти без гласных.
— Ах да. «Волнующий цирк». Меня это название задевало, царапало. Оно казалось мне — я прошу прощения — каким-то отталкивающим. Передо мной ставят задачу: изобразить на бумаге иные миры. И я изображаю их. Если мои иллюстрации совпадают с содержанием книги, это чистая случайность.
Я прочел когда-то «Волнующий цирк», и сейчас мне вспомнилась куча роботов, обитающих в полом астероиде.
На выручку скукожившемуся Вандейну пришел Блумлайн, поспешив сменить тему:
— Авраам настолько эрудирован и обладает таким редким природным чутьем, что за какую бы работу он ни взялся, выполняет ее блестяще. В нашей области этот человек — комета, которую мы ухитрились затянуть на свою орбиту. Попутчик — как Стенли Кубрик или Станислав Лем. Он презирает наш лексикон, невольно обновляя его по велению души.
— Я вынужден перебить тебя, Сидни, потому что ты переоцениваешь мои заслуги. — Авраам сильно разволновался. — Ты ставишь меня в один ряд с такими людьми, как Кубрик, Лем, а мистер Грин, дай бог ему здоровья, сравнил с Финлэем, с которым я, к сожалению, ни разу в жизни не встречался. Позвольте мне назвать несколько других имен. Эрнст, Танги, Матта, Кандинский. Возможно, ранние Поллок и Ротко. Единственная моя заслуга — это получение образования в сфере современной живописи, точнее, современной в пятидесятые годы. Я всего лишь уяснил для себя и прочувствовал, что такое поздний сюрреализм и зарождавшийся тогда абстрактный экспрессионизм. В тот период властвовали они. Каждый мазок, который я наношу сейчас кистью на бумагу, — производное от них, фактически цитата. К космосу все это не имеет никакого отношения. Ни малейшего. Если бы вы ходили в музеи, а не сидели в скорлупе быта, то поняли бы, что чествуете сейчас второсортного вора.
— Почему же ты все-таки занялся поп-артом? — спросил Блумлайн.
— Ради бога, Сидни! Когда я начал иллюстрировать книжные обложки, ничего, кроме поп-арта, уже не существовало.
Блумлайн и Эбдус теперь словно разыгрывали эстрадное представление, остальные же сидящие за столом, казалось, попали туда по ошибке. Публика все принимала молча.
— Несмотря ни на что, ты здесь, Авраам, среди нас. «Лунакон» не пришелся тебе по вкусу, но ты продолжал оформлять книги, делиться с нами своим талантом. Сегодня ты — наш почетный гость.
— Насколько я понимаю, ты ждешь от меня объяснения. Оно тебе вряд ли понравится. Признаюсь честно, если бы я обладал более твердым характером, то не приехал бы на нынешний конвент. Но меня соблазнила перспектива быть восхваленным, поэтому я приехал. О том, что я работаю над фильмом, вряд ли кому-то еще известно. Точнее, не известно никому. Вы все слишком добры ко мне, чересчур добры. Я благодарен вам. А объяснение — оно даже не одно, их несколько. Например, такое: моей подруге, Франческе, захотелось куда-нибудь съездить.
— Но ты хотя бы чувствуешь себя здесь своим человеком, пусть даже с недостатками, которые видишь только ты?
Авраам пожал плечами.
— Здесь собрался богемный полусвет. В области так называемого экспериментального кино тоже проводятся встречи и конференции, но я никогда на них не езжу. Некоторым людям кажется, что такие мероприятия помогают им профессионально расти. Однако работа, настоящая работа, естественно, идет вдали от всех этих сборищ. Подобные встречи — по сути, случайности, и далеко не всегда счастливые. Меня искренне удивляет, что вы собрались сегодня здесь, чтобы чествовать человека, который ничего особенного собой не представляет. Мне хотелось бы вывести вас из состояния очарованности, в котором вы пребываете, но я не уверен, что смогу с этим справиться.
Публика одобрительно засмеялась и захлопала в ладоши. Я услышал, как женщина, сидящая рядом, восхищенно прошептала:
— Он всегда такой.
— Мне даже немного стыдно, — сказал отец.
Все зааплодировали с удвоенной силой. Бадди Грин вскочил со своего места и хлопал стоя. Лишь Пфлюг не разделял общего восторга и ерзал на стуле.
— Я растратил свою жизнь впустую.
Это была последняя фраза отца, которую я услышал, — все остальные его слова утонули в море бурных оваций. Авраам страдал, находясь в центре внимания. Внимания богемного полусвета, так он назвал людей, которые сейчас его окружали. Они воспринимали отца как прирученного ересиарха, известного пессимиста. То, как он выставлял напоказ собственную несостоятельность, лишь заводило толпу, мне показалось, они все даже ждали этого ключевого момента. Мирясь с презрением к ним их кумира, как собака — с необходимостью терпеть поводок, эти люди, по-видимому, считали, что просто обладают хорошим чувством юмора и умеют посмеяться над самими собой, собственными недостатками.
Но несмотря ни на что, во взгляде Авраама я уловил проблески ответной любви, скрыть ее он был не в силах. Мне вспомнились слова моего тезки из «Колоколов свободы»: «Они звонят по страдающим, неизлечимым, несправедливо обвиненным, обиженным, легкоранимым, по каждому несчастному на всей земле». Естественно, я не раз бывал на сборищах рок-критиков, диджеев университетского радио, ездил на музыкальный марафон, организованный «Колледж Мьюзик Джорнал», на конференции и просто тусовки, где кого-то точно так же восхваляли и возносили, как сейчас — моего отца. Только одеты там люди были по-другому. Сейчас мне представился целый мир, сплетенный из таких вот встреч и разного рода «конов», где ощущение собственной неполноценности и ненависть к себе легко превращаются в свою противоположность.
Творческая встреча приблизилась к концу. К столу подошел и сел рядом с Сидни Блумлайном еще какой-то человек. Призывая к тишине, он постучал пальцем по микрофону. Одет этот тип был так же странно, как все вокруг, но по-особому странно. Его рубашка в светло-голубую полоску с белоснежным воротничком, красный галстук-бабочка, аккуратные усики и прилизанные волосы — все в нем напоминало облик сенатора-республиканца, занявшего столь высокий пост благодаря ловко провернутой избирательной кампании. У него был чрезвычайно громкий голос.
— Мне впервые выдается шанс лично поприветствовать всех собравшихся на конвенте, — прогремел он. — С чего бы мне начать? Наверное, с радостного известия, о котором по своей скромности мистер Эбдус не упомянул сам. Завтра в десять часов утра нам предоставляется счастливая возможность частично увидеть его фильм. Всех приглашаю завтра в зал Вайоминга. Не упустите этот шанс!