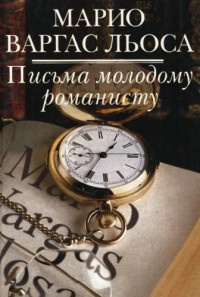Книга Сон Кельта - Марио Варгас Льоса
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А Роджер и сам теперь ничего уже не знал после того, как в начале декабря 1914-го побывал вместе с германскими генералами Де Граафом и Экснером в Лимбургском лагере, где наконец сумел обратиться к нескольким сотням пленных ирландцев. „Как наивен и глуп я был“, — скажет он потом, с горечью вспоминая растерянные, недоверчивые, враждебные лица соотечественников, когда он со всем пылом своей любви к Ирландии объяснял им, зачем нужна Ирландская бригада, какие задачи будут стоять перед ней и как будет им благодарна отчизна за их самопожертвование. Вспомнит он и здравицы в честь Джона Редмонда, несколько раз перебившие его слова, и неодобрительный и даже угрожающий ропот, и гробовое молчание, воцарившееся, когда он завершил выступление. И то унижение, которое пережил он, когда солдаты лагерной охраны окружили его и поспешно увели прочь, потому что, хоть и не понимали гневных выкриков, догадывались — дело может кончиться расправой над оратором.
Именно так и произошло 5 января 1915 года, когда Роджер вновь приехал в Лимбургский лагерь. На этот раз ирландцы не ограничились бранью, свистом и непристойными жестами. „Сколько тебе дали немцы?“ — неслось над строем. Роджеру пришлось замолчать — дружные крики все равно заглушали его голос, не давали говорить. Потом полетели камни и все, что попало под руку. И снова конвой бегом утащил его с лагерного плаца.
Кейсмент так и не оправился от этого позора. Воспоминание о нем, как злокачественная опухоль, непрестанно разъедало ему нутро.
— Должен ли я отказаться от этого, раз уж нарвался на такой дружный отпор?
— Вы должны делать то, что сочтете нужным для блага Ирландии, — ответил монах. — Ваши помыслы чисты. А непопулярность — не самый верный признак неправоты.
С той поры для Роджера началась мучительная двойственность: он делал все, чтобы у германских офицеров создалось впечатление, будто Ирландская бригада успешно формируется. Да, дело на первых порах идет непросто, пока добровольцев немного, но все коренным образом переменится, когда пленные сумеют преодолеть начальное недоверие и поймут, что дружба и сотрудничество с Германией пойдут только на пользу их отчизне и, следовательно, им самим. Но при этом сам он в глубине души был твердо убежден, что говорит неправду, ибо число тех, кто изъявил желание служить, было и останется ничтожно.
Но если так, то зачем упорствовать? Почему бы не отыграть назад? Да потому, что это было бы равносильно самоубийству, а Роджер Кейсмент еще хотел жить. Пока еще хотел. А если уж умирать, то, во всяком случае, не так. И потому он скрепя сердце продолжал в начале 1915 года вести с германским командованием переговоры об Ирландской бригаде. Он предъявлял определенные требования, и его собеседники — Артур Циммерман, граф Георг фон Ведель и граф Рудольф Надольни — выслушивали его с очень значительным видом и что-то записывали в блокноты. Затем ему сообщили, что требования эти будут удовлетворены: бригада будет укомплектована офицерами из числа ирландцев, получит собственное обмундирование, сама будет выбирать, на каком участке фронта действовать, все затраты же будут возмещены правительством республиканской Ирландии, как только оно сформируется. И Роджер, и его собеседники знали, что ломают комедию: к середине 1915-го добровольцев не набралось бы и на одну роту — их оказалось всего человек сорок, и маловероятно было, что они исполнят свой долг. И он много раз спрашивал себя: „Сколько же этот фарс еще продлится?“ В письмах к Оуину Макниллу и Джону Девою был вынужден уверять их, что комплектование бригады хоть и медленно, но идет. Число „волонтеров“ постепенно растет. Совершенно необходимо спешно прислать сюда офицеров-ирландцев, которые начнут обучать солдат и станут командирами взводов и рот. Ему обещали это, обещаний своих, однако, не исполнили: появился лишь капитан Роберт Монтейт. Впрочем, этот человек один стоил целого батальона.
Первые признаки наступающих перемен Роджер заметил, когда кончилась зима, и на деревьях Унтер-ден-Линден появились первые зеленые листочки. Заместитель министра иностранных дел на одной из их регулярных встреч вдруг, без околичностей и вступлений, заявил, что германские власти не доверяют его помощнику Эйвинду Адлеру Кристенсену. Есть основания полагать, что он сотрудничает с британской разведкой, и потому с ним следует немедленно прекратить все контакты.
Роджер поначалу страшно удивился и с порога отмел обвинение. Потребовал доказательств. Ему ответили, что без очень веских доказательств соответствующие службы и не сделали бы подобных выводов. Как раз в эти дни Эйвинд собирался на несколько дней в Норвегию, навестить мать, и Роджер согласился отпустить его, дал ему денег на дорогу и проводил на поезд. И больше никогда не видел. С того времени к прежним гнетущим мыслям прибавилась еще одна: „Неужели этот юный викинг был шпионом?“ Роджер перебирал в памяти все, что происходило в несколько последних месяцев, отыскивая неосторожно вырвавшееся слово, поступок, какое-нибудь противоречие — все, что могло бы уличить Эйвинда. Но не находил ничего. Он пытался взять себя в руки, уговаривал себя, что это — навет, что родовитые и надменные прусские вояки, опутанные своими ханжескими предрассудками, заподозрили, что его отношения с Эйвиндом не вполне чисты и невинны, и решили разорвать их любой ценой — пусть даже ценой клеветы. Сомнения, впрочем, не рассеивались и не давали ему покоя ни днем ни ночью. И, узнав, что Эйвинд решил из Норвегии вернуться в Соединенные Штаты, а не в Германию, испытал облегчение.
Двадцатого апреля 1915 года в Берлин, после авантюрного путешествия через пол-Европы — головоломный маршрут был избран, чтобы не попасть в сети британской разведки, — прибыл эмиссар от ИРБ и „волонтеров“ 27-летний Джозеф Планкетт, исхудалый, скрюченный полиомиелитом, пожираемый туберкулезом, с изможденным лицом, напоминавшим череп. Как удалось ему при его немощах проделать этот путь? У Джозефа Планкетта, отец которого, граф Джордж Ноубл Планкетт, человек весьма родовитый и известный, возглавлял Дублинский национальный музей, был особый, аристократический выговор, манера одеваться причудливо и небрежно — он носил широченные брюки, сюртук не по росту, шляпу, нахлобученную до самых бровей. Однако стоило лишь недолго послушать его, чтобы забыть о нелепой, клоунской наружности этого тяжелобольного человека и обнаружить могучий, редкостно проницательный ум, невероятную начитанность, неукротимый, пламенный дух прирожденного воителя и борца, готового в любую минуту пожертвовать собой ради Ирландии. Как и Патрик Пирс, он был фанатично верующим католиком, увлекался творчеством испанских мистиков и прежде всего — святой Терезы де Хесус и святого Хуана де ла Крус[18], которых мог часами декламировать в оригинале наизусть, и сам сочинял стихи подобного же толка. И опять же, как Патрик Пирс, неизменно занимал самые крайние, радикальные позиции, чем и привлек к себе Роджера. Слушая их, Кейсмент не мог отделаться от ощущения: оба стремятся к мученичеству и совершенно уверены, что, лишь уподобившись отвагой и презрением к смерти героям прошлого, вписавшим свои имена в историю Ирландии, или первым христианам, сумеют они внедрить в косное сознание большинства: свободу можно будет завоевать только с оружием в руках. На крови, пролитой сынами Эйре, возрастет независимая страна, где не будет ни угнетателей, ни угнетенных и восторжествует закон, справедливость и истинно христианские ценности. В Ирландии Роджера иногда немного страшил этот полубезумный романтизм Планкетта и Пирса, но, слушая юного поэта-революционера здесь, в Берлине, в те погожие весенние дни, когда деревья в парках одевались свежей листвой и распускались цветы в садах, он испытывал умиление и жгучее желание верить всему, что тот говорил.