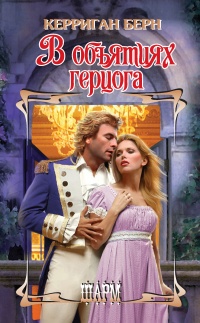Книга Реальная жизнь - Имоджен Кримп
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
После этого я сделала то, чего боялась почти так же сильно, как петь, – заставила себя позвонить Анджеле. Попросила прощения. Мол, запуталась. Наломала дров. У меня вся душа изболелась по музыке, добавила я. Мне казалось, что фраза такого рода не оставит ее равнодушной.
– Но, Анна, – проговорила она, – я не понимаю, почему ты сразу не пришла ко мне. Я всегда за тебя, ты же знаешь. Почему ты мне не рассказала о своих проблемах? Это же моя работа, пойми!
– Простите меня, – сказала я. – Я была… Наверное, мне было стыдно. Не хотелось признавать, что у меня проблемы. Глупо, конечно. Вы теперь, наверное, и учить меня не захотите?
– Ну-ну, поменьше драматизма, – сказала она. – В нашей работе без того полно сложностей.
У нее был месяц отпуска, и я по полдня проводила в ее прекрасном доме в Кенсингтоне. Она кормила меня, ставила записи своих любимых исполнителей, давала почитать автобиографии знаменитых сопрано, у которых были проблемы с голосом. Она разобрала мой сломанный голос до основания и выстроила его заново по кирпичику. По ее уверениям, он стал лучше, чем был. В нем появилось достоинство, о котором она раньше и не подозревала. Новая глубина, говорила она. Печаль.
– Мы не можем петь без жизненного опыта, – наставляла она меня. – Опыт – наш главный инструмент. Это как писать картины без кисти.
Бывало, раньше я напевала песни, получая удовольствие от звучания и текстуры. А теперь вслушивалась в слова, и они причиняли нестерпимую боль.
Лишь ты, познавший желание, поймешь мои страдания.
Или:
Я не хочу, чтоб утро знало имя, что я твердила ночи.
Или:
Нет мира на душе, на сердце тяжело, возврата нет и никогда не будет, не будет никогда.
Май перетек в июнь. Дни становились длиннее, вселяя неукротимый оптимизм. Я тренировалась петь перед слушателями. Пела мужу Анджелы. Пела Лори и всем нашим соседкам. Однажды вечером Анджела повела меня в Гайд-парк, заставила влезть на скамейку и запеть, и люди останавливались послушать. Ужас постепенно разжимал хватку. Я заново научилась погружаться в себя, открывая дверь музыке, а там, внутри, все оказалось на своих местах – как будто возвращаешься домой из далекого путешествия и обнаруживаешь, что за время твоего отсутствия ничего не изменилось.
К середине июня деньги Макса закончились.
Я платила Анджеле. Я начала платить речевому терапевту, потому что консерватория больше средств не выделяла. С кем бы я ни говорила, все наперебой предлагали мне еще за что-нибудь заплатить. Иглоукалывание, приложения для медитации, массаж гортани, пилатес. На каждом шагу – траты. В конце концов мне стало казаться, что деньги вытекают из меня сами собой и, где бы я ни побывала, после меня на сиденье остается ворох купюр.
Поэтому я пошла к Малкольму и попросилась обратно. В первый вечер ноги у меня тряслись и голос дрожал, но все шло как обычно – люди были заняты своими разговорами и хлопали по окончании каждой песни. Очень быстро это превратилось в рутину. Я пела джаз три вечера в неделю, а остальные вечера и несколько послеобеденных смен подрабатывала официанткой. А еще я начала преподавать вокал. Лори порекомендовала меня одному из семейств, у которых она репетиторствовала.
– Вы сориентируйте по стоимости, – сказала мама. – Договоримся.
Я спросила у Лори:
– Что значит «договоримся»?
– Это значит «сколько скажешь, столько и заплатим».
Я занималась с Фредди три часа в неделю и получала за это больше, чем сама платила Анджеле. Ему было двенадцать лет, и он рассчитывал получить стипендию по музыкальному профилю в школе-пансионе. Он хотел стать премьер-министром, и его легко было представить на этом посту. На первом же уроке он сказал мне, так по-взрослому, что мне стало слегка не по себе:
– Поймите, Анна, дело, конечно же, не в деньгах. Мы люди не бедные, обошлись бы без стипендий. Это вопрос престижа. Папа говорит, что стипендиатам легче поступить в Оксфорд.
В конце каждого урока мама Фредди подходила ко мне с пачкой купюр в руке и просила напомнить, сколько я беру. Я могла назвать любую сумму, и она бы заплатила. Это были просто бумажки, которые кочевали из рук в руки. Я получала деньги от нее. Получала деньги от Малкольма. Надолго они у меня не задерживались, я отдавала их дальше: Анджеле, речевому терапевту, Мил, и так до бесконечности.
Впрочем, тратила я не все. Каждый раз, получая наличные на руки, я отделяла от пачки одну-две банкноты и прятала в ящик. У меня до сих пор сохранился список моих задолженностей, и я была полна решимости все вернуть. Еще не хватало остаться у него в долгу! Это превратилось в навязчивую фантазию. Когда мысли были ничем не заняты или когда сон не шел, я только об этом и думала. Нет, не о том, как Макс калачиком сворачивается рядом со мной в темноте или нашептывает мне слова, которых в жизни он никогда бы не произнес. Нет. Я воображала, как захожу в его дом. Поднимаюсь на лифте. Стучу в дверь. Его лицо, когда он меня увидит. Что на нем отразится? Изумление – да – изумление, иной раз восхищение, а иногда, бывало, даже любовь. Но я буду держаться холодно и отстраненно. Я же успешная женщина. У себя в воображении я каким-то образом становилась – в очень короткие сроки – невероятно успешной. Он прочтет это в моих глазах. «Я ненадолго, – скажу я. – У меня сегодня концерт». Или что-нибудь в этом роде. Диалог еще нужно доработать. Потом я протяну ему деньги в конверте. Он уставится на мою руку. Я скажу: «Вот, Макс. Держи. Это тебе». Он не сразу сообразит, что это, но потом до него дойдет.
* * *
Июнь, а за ним июль. «Северная линия» не могла больше перевозить скот – слишком жарко. Уж где-где, а в Англии не должно быть такого пекла. Казалось, что мир летит в тартарары, но в то же время все шло своим чередом, и я готовилась к фестивалю. Учила репертуар. Собирала чемодан. У меня было чувство, будто я долго жила где-то вне собственного тела, и теперь относилась к нему с обновленным интересом. Стала следить за тем, что ем, потреблять меньше кофеина, алкоголя, изобретала какие-то новые блюда, стала покупать больше фруктов. Начала