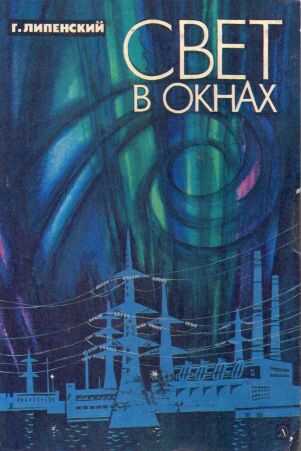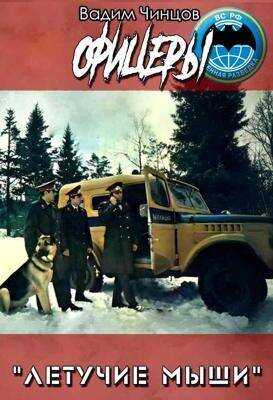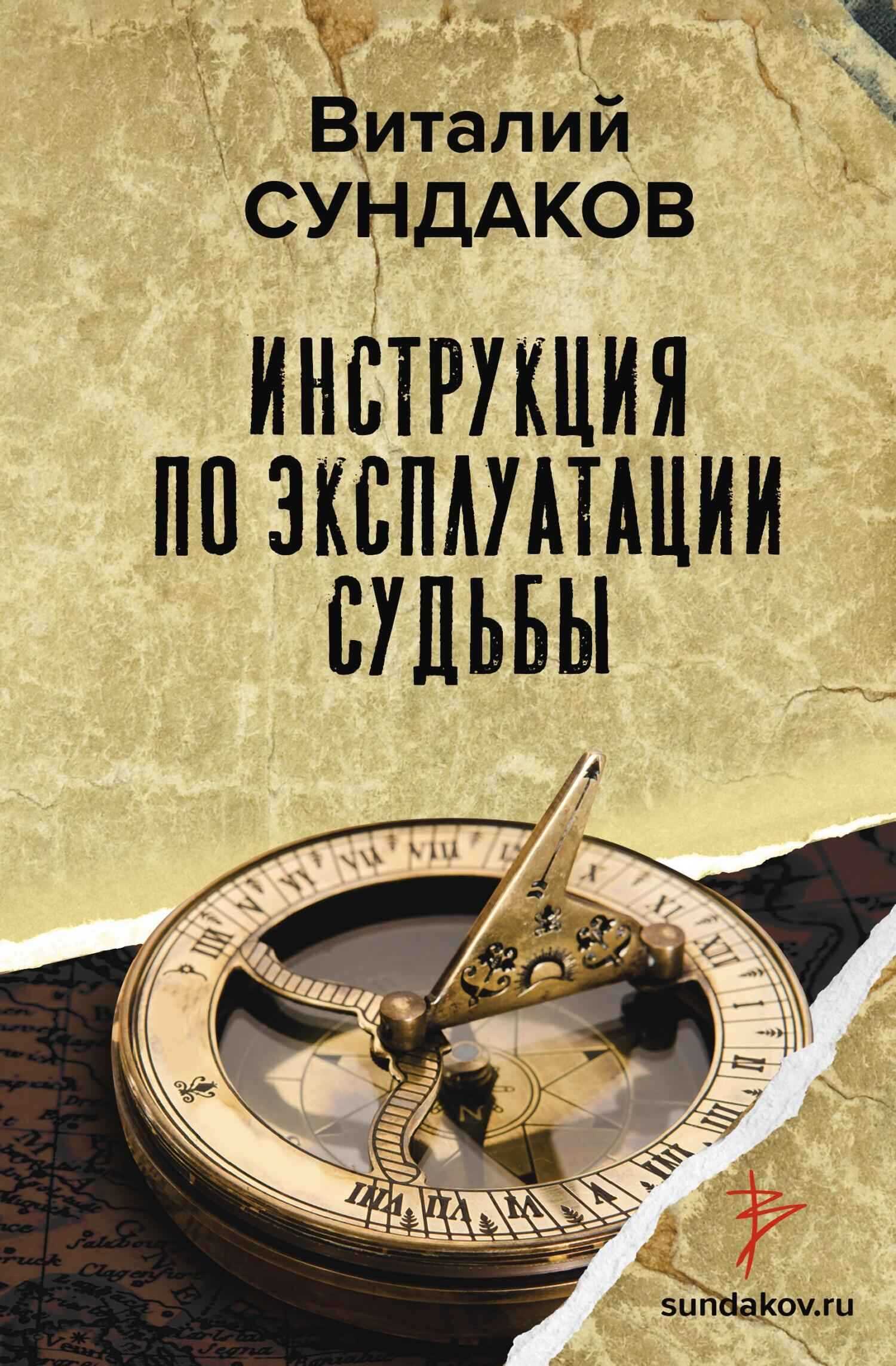Книга Двужильная Россия - Даниил Владимирович Фибих
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Остальное забирай.
Я собрал отвергнутое.
– Давай табак! – грубо приказал мне второй – апаш со злым лицом.
– У меня мало, – попробовал было я возразить – махорки действительно было в треть кисета – и тут же получил ослепляющий удар кулаком в глаз. Другой рукой апаш вырвал у меня кисет. Я не ответил ударом на удар, снес на этот раз. Слишком неравны были силы: два молодых, крепких, здоровых, готовых на все парня стояли передо мной, совершенно обессилевшим, уже пожилым человеком, да еще прижатым к стене. Кроме того, такой удар не был оскорбительным, как если бы меня ударил Коваленко.
– Зачем ты его так? – укоризненно сказал товарищу мальчик в офицерской ушанке.
Ограбив меня, урки так же внезапно исчезли, как и появились, и я с подбитым глазом, чувствуя, что начинаю понемногу оттаивать в смрадном тепле переполненной камеры, стал по возможности устраиваться на ночлег.
Дальнейшая дорога выветрилась из памяти. Помню только, что пробыли в Петропавловске несколько дней, дожидаясь состава, который повезет дальше. Затем снова столыпинский вагон, путь в такой же тесноте… Кормили нас в Петропавловской тюрьме горячей пищей, той мучной затирухой, о которой мечтательно рассказывали в этапе опытные, уже побывавшие здесь блатари.
Запомнилось также, как ехал: сидя в проходе на полу, под оконным столиком, прислоняясь спиной к вагонной стенке, а в ребра мне справа и слева упирались колени тех, кто тесно сидел на лавках. Было больно и трудно дышать. Впрочем, наверное, уже начиналось схваченное в результате такого сидения воспаление легких, оттого и больно было дышать. На фронте я в ноябрьские холода переходил реки по пояс в ледяной воде, спал у костра на снегу – и хоть бы насморк получал…
Помню и тот пасмурный февральский денек, когда на двенадцатые сутки прибыли мы наконец на Карабас, конечный пункт нашего крестного пути. Этап завершился.
Голая, плоская, невыразимо унылая, заснеженная равнина, где ни деревца, ни кустика не видно. Степь казахстанская, проклятый край. Возле маленькой железнодорожной станции ютится поселок, беленые, сложенные из самана, одноэтажные плоские строения. Поодаль видна зона: деревянные вышки с часовыми, десятки длинных саманных плоскокрыших бараков, оцепленных колючей проволокой в три ряда. Вот он, лагерь, где я осужден пробыть десять лет. Прибыли!..
Медленно, нога за ногу, плелись мы в зону, растянувшись на рыхлой подтаивающей дороге длинной серой вереницей, под низким серым небом. Больше некуда было спешить – прибыли! И конвойные тоже плелись бок о бок с нами, не подгоняли, как обычно, не кричали «быстрей, быстрей!». Доставили партию до места назначения, никто по дороге не сбежал, все в порядке. Да и отощал народ за этап, обессилел, еле ноги волочит, ему не до побега…
Похоронное было шествие.
Сквозные, опутанные колючей проволокой ворота из нескольких крест-накрест сбитых бревен, перед воротами поджидает нас принимающее этап лагерное начальство – несколько сержантов в бушлатах защитного цвета. На фронте я не видел таких бушлатов. Проверка путевых листов и списков – мы покорно стоим, пока конвой сдает нас лагерной администрации.
– Разберись по пятеркам!
Разобрались.
– Первая пятерка, вперед!..
– Вторая!..
– Третья!..
Мы подсчитаны, все в порядке. Убогие ворота раскрываются шире, и мы, едва передвигая слабые ноги, ряд за рядом входим в зону, где, кутаясь в лохмотья, густыми толпами стоят голодные исхудалые оборванцы, встречающие этап. Не мелькнет ли среди новоприбывших знакомое лицо?
В сущности, Карабас (от казахского Карабаш – черная голова) являлся только преддверием лагеря. То был распределительный пункт, откуда поступавшие этапы направлялись на место работы. Своего рода невольничий рынок. Лагерные рабовладельцы, администраторы-хозяйственники приезжали сюда за даровой рабочей силой и отбирали нужный для себя контингент. Заключенные так про них и говорили: «Покупатели приехали». Чрезвычайно текучий, непрерывно меняющийся здешний людской состав доходил до пяти-шести тысяч. Прибывшие, совершенно изнуренные дорогой этапники первым делом проходили двухнедельный так называемый карантин, во время которого получали несколько улучшенное питание – подкармливались для предстоящего тяжелого труда. Потом их распределяли по отделениям и участкам Карлага.
Итак, конвой остался за воротами зоны. После долгих месяцев тюремной неволи я вновь получил человеческое право свободно передвигаться в пространстве, избавился от непрерывного наблюдения и грубых окриков. Первым ощущением, охватившим меня при входе в зону, было, как ни странно это звучит, блаженное чувство свободы. Никто больше не подглядывал за тобой в волчок; никто не тащил тебя куда-то, крепко сжав пальцами предплечье; никто не грозил смертью за шаг вправо или влево и не подгонял, науськивая злую собаку. Можно было самому пойти направо или налево – куда захотел, остановиться и заговорить со встречными, заглянуть в любой облезлый, с пятнистыми стенами барак под плоской глиняной кровлей. Хоть на пятачке, а свобода! Правда, весьма относительная, ограниченная тремя рядами колючей проволоки и вышками с часовыми.
Нам указали барак, отведенный для нас. Поплелся и я за унылой толпой этапников, но когда очутился внутри барака, оказалось, что расположенные в четыре ряда двухъярусные нары все уже были заняты, свободных мест не осталось. Крик, спор, ругань стояли в воздухе – люди чуть не дрались из-за места, где можно было лечь. «Шум и гам в этом логове жутком», – сказал бы Есенин.
Озираясь кругом, собрав последние силы, брел я по проходу между нарами. Свбодных мест не было. Я собирался было уже улечься где-нибудь в углу на грязном и мокром земляном полу, но тут внезапно услышал знакомый голос:
– Эй, батя!
Голос звучал сверху. На меня глядело круглое мальчишеское лицо под серой офицерской ушанкой. Паренек, наверное, прибыл с нашим этапом и уже успел неплохо устроиться на верхних нарах.
– Давай сюда! Ты что, болен?
– Болен, – ответил я
– Лезь. Давай руку.
«Ну, теперь окончательно разденут», – подумал я со спокойствием безнадежности и с трудом начал карабкаться наверх. В том физическом состоянии, в каком я тогда находился, все на свете было безразлично, даже самому лезть в осиное гнездо. Круглолицый парень, подав руку, помог мне забраться к нему на нары.
– Ложись, батя, тут тебе будет хорошо.
Я очутился в самой гуще блатарей, впрочем, не обращавших на меня ни малейшего внимания и занятых своими темными юркими делами. Апаша с полосатым шарфом среди них я не заметил.
Незаметно подошел вечер, в бараке зажгли две коптилки, висевшие под потолком, они еле-еле освещали проходы. Во тьме на нарах тяжело копошились, галдели, кашляли, переругивались. Укладывались спать. Мне было скверно, очень скверно, я в полузабытьи лежал на голых досках. Доски были положены не сплошняком, а