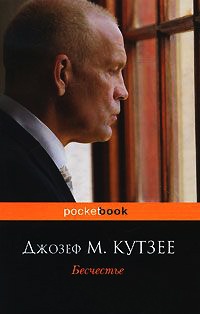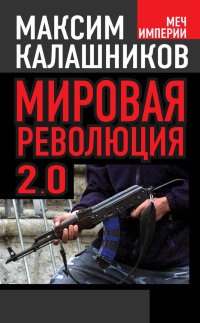Книга Соучастник - Дердь Конрад
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Морщинистые, израненные, поседевшие стены. Переплетная мастерская, зеленная лавка, электромонтер. Каштановое дерево, голуби, строительный мусор, машины, ищущие, где припарковаться, пьяные на ступеньках корчмы. Из дверей мясной лавки льется запах теплого копченого мяса; перочинным ножом я режу мясо на кусочки, рядом ест трубочист, я держусь за пуговицу и через стекло витрины смотрю на улицу. Двое: один на скамейке, второй в машине — обмениваются взглядами. Честно говоря, так славно было бы вновь забиться в умеренно привлекательное, материнское тело города, заключив сепаратный мир с пахучей его ограниченностью. Мясо было вкусным; стакан вина в соседней корчме. Двое толкают друг друга, в глазах — гнев: «Шкуру спущу!» «Яйца отрежу!» «Дерьмом накормлю!» «Глаза зажигалкой выжгу!» «Угостишь еще стопкой?» «Ладно, но это — последняя». «Выпьем, и больше я тебя не знаю». «Может, больше и не встретимся никогда?» Ко мне подходит псевдонищий, сообщает: он только что вышел из тюрьмы, домой хотел бы поехать, к семье, в провинцию, да нету денег на поезд. Уже лет тридцать, как он только что из тюрьмы; скудость его фантазии раздражает меня. «Скажите, за столько лет нельзя было что-нибудь новенькое придумать?» «А зачем?» «Да ведь никто не верит уже». «Верят, не верят, это их дело. Важно, что деньги дают, и не один форинт, а два. Вы ведь мне тоже дадите». «Даю десять». «Много. Вы, я вижу, норовите мою моральную поддержку купить. Я не продаюсь. Я еще никому и никогда свои руки, свой труд не продавал. Так что будьте любезны, давайте два форинта: не могу я столько времени на одного клиента тратить». Стоит, прислонившись спиной к стене, женщина; она так одинока в этой сутолоке, что даже бесцеремонные завсегдатаи корчмы оставляют вокруг нее небольшое пустое пространство. Она обращается к кому-то, кто далеко отсюда: «Я же сказала тебе: оставайся. Почему ты ушел? Разве тебе со мной было плохо?» Молодой парень с седой головой, опираясь на костыль, пьет пиво с палинкой, курит зловонную сигару, руки у него дрожат; он замечает, что я смотрю на него. «Жена вывела из себя. Опять забрюхатела, едри ее в корень. Я на рынке мелочь всякую продаю, с инвалидной коляски. Можно на это четверо детей содержать? А если сейчас скажешь ей, мол, черт с тобой, ладно, так ведь она через год опять обрадует, что пятый намечается. Такая она баба: руку ей на живот положи, и она уже понесла. А у нас одна комнатка, представляете, она прямо перед детишками тащит меня на себя, а они вокруг прыгают. Быть бы мне голубым — жил бы, как человек. От баб что? Детишек куча, да нищета, да вкалывай с утра до вечера».
15
Телохранители мои перед корчмой — в хорошем теле: маленькие глазки, налитая шея. Герои нашего времени; я хотел бы видеть их портреты на обложках иллюстрированных журналов. Разглаженный мокрой щеткой пробор, в нем немного перхоти: какие мысли приходили тебе в голову, брат мой во Христе, когда ты утром стоял перед зеркалом в ванной? Если ты поставлен за кем-то следить, то прирастаешь к нему, как тень. От меня ни одна собака не убежит, хвастаешься ты зеркалу. Они настороже, они готовы ринуться следом за мной; погодите, я люблю эту площадь, дайте еще чуть-чуть поглазеть. А вы тоже глазейте по сторонам, есть туг и кроме меня интересные вещи. Не стоит воспринимать свою роль так уж серьезно. Я вижу, они разговаривают в машине по рации; «Торчит», — разочарованно сообщает, должно быть, в центр один из моих ангелов-хранителей. Мимо проходит красивая молодая женщина, я радуюсь: заметили! Я меняю позу; грустно: их взгляды мгновенно соскользнули с нее. Я направляюсь в сторону одного из них; он поворачивается спиной, уходит в сторону. Хореография слежки предписывает им держаться на расстоянии от меня.
Маленький портняжка, краснея, протягивает мне руку из двери своей мастерской; в последний раз я видел его, когда меня забирали. «Вы таки снова здесь, господин Т.? Выглядите прекрасно. Из-за границы, должно быть? Да, ничего не скажешь: наука, красивые дамы, море. Нет, нет, я не завидую. Не завидую. Я уж как-нибудь тут, в этой дыре, с семи утра до десяти вечера. Не вымерли еще кустари, не вымерли. Может, соорудим вам, господин Т., красивое осеннее пальто? Именно так, осеннее, а не весеннее: осенние плоды — самые вкусные». С объемистым кульком выходит на улицу кондитер, вокруг него собирается детвора, он раздает им обрезки печенья, они накидываются на них, щебеча, как воробьи. Я протягиваю сигарету человеку в пижаме: он тянет ко мне руку из-за решетки в окне больницы, другой рукой хлопает себя по губам. В замусоренном подвале, при неоновом свете, человек в замасленной блузе собирает какой-то механизм; сняв очки, устало трет запястьем глаза. Из открытого окна доносятся звуки скрипки. Женский голос: «Короля Кароя короновали в шестнадцатом». Мужской голос: «Нет, радость моя, в семнадцатом». Женский голос: «Ах, значит, я вру?» Падает стул, топот: должно быть, гоняются друг за другом вокруг стола. Тишина. Женский голос: «Гости все равно уже не придут, давай допьем эту палинку, зайчик». Мужской голос: «Допьем, зайка». На меня натыкается слепой; с чувством вины взяв его острый локоть, я перевожу бедолагу через мостовую. Когда мы на той стороне, он вытаскивает мятую фотографию: «Вот такой была моя жена, а возле нее — это я». На снимке — двое слепых. «Зачем вы с собой это носите?» «Рука лучше помнит, когда я держу это фото».
В какой-то витрине я с любопытством разглядываю сверкающий, искрящийся электрический поезд. Поливальная машина брызгает мне сзади на брюки; на меня смотрит, смеясь, молодая пара, они тоже мокрые; потом они забывают обо мне и продолжают целоваться. Толстая женщина прислоняет пьяного мужа к афишной тумбе и оплеухами пытается привести его в чувство. «Хватит! — говорит муж. — Пошли». Он обхватывает широкие плечи жены, и они, шатаясь, бредут дальше. Ко мне подкатывают на роликах двое мальчишек, показывают паука в спичечной коробке, предлагают купить. На огороженной проволочным забором площадке прыгают, ловя соскальзывающий с края корзины мяч, девушки с подрагивающими ляжками. Пожилая женщина, держа в руке мертвую кошку, трясет кулаком вслед удаляющейся машине: «Чем богаче, тем наглее!» Грустный столяр, сидя перед бутылкой вина, машет мне из подвальной мастерской; по крутой лестнице с узкими ступенями я спускаюсь к нему и — ради ритуала — спрашиваю, сколько стоит починить ножку стула. Как я и ожидал, он называет безумную цену, только чтобы отпугнуть клиента: работать он терпеть не может, зато обожает поговорить. Столяр предлагает мне вина и зовет заходить завтра: он еще подумает насчет цены. Какой-то старик с важным видом останавливает поток машин: с тротуара к скверу невозмутимо шествует курица. Старик, сидя на скамейке, читает газету, курица сидит позади него, на спинке скамьи, старику явно не нравятся новости; курица тоже заглядывает одним глазом в рубрику внешней политики. Старик — привычная фигура на этой площади; жена его умерла от рака, сына повесили за пятьдесят шестой. Он так больше и не женился: старуха ему не нужна, а молодым — он не нужен. «Вы, сударь, понятия не имеете, что за преданное и мудрое существо — такая вот курица. Жена, царствие ей небесное, вечно меня за нее грызла. Но послушали бы вы это размеренное, ласковое кудахтанье! Очень вам советую: успокаивает, как никто». Останавливается такси, из него выскакивает прилично одетый господин и пускается бегом через сквер; шофер догоняет его, подставляет ножку, пассажир, перевернувшись на спину, смеется: «Я проверить хотел, догонишь ты меня или нет?» Я сажусь на скамейку; рядом, на дереве, пришпилено объявление: продается арфа. Старик девочке — внучке, должно быть: «Барбара, хочешь на арфе играть?» Ладонь Барбары в растаявшем шоколаде, она вытирает ее о штаны деда; «Хочу», — отвечает она охотно. Под соломенной шляпкой, украшенной пластмассовыми фруктами и цветами, жеманно выпячивает накрашенные губы старая Габриелла; десять лет назад она была еще Габором, потом Габор решил, что он — скорее, женщина. Коротенькие, узловатые ножки Габриеллы и в золотистых колготках смотрятся не очень. Зато она мастерица стряпать; люди в окрестностях хорошо ее знают и смеются над ней, а она благодарно улыбается всем и благодарит. «Как жизнь, Габриелла? — спрашиваю я. — Каждый день сплошные успехи?» Она прикрывает морщинистые веки с темно-синими тенями: «О, я прямо нарасхват. Представьте, у меня сейчас салон педикюра, исключительно для мужчин. Не хотите зайти?» В корзине у нее, среди пучков зеленого салата, бьется толстый карп. Я покупаю газету, сажусь на скамью, спокойно наблюдаю за своими соглядатаями. Все тот же слепой: он идет назад. Хочет перейти улицу — и просит одного из моих телохранителей, чтобы тот ему помог. Конфликт чувства и долга. Ладно, молодой человек, переведите, а я за это обещаю, что никуда не уйду.