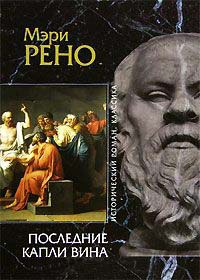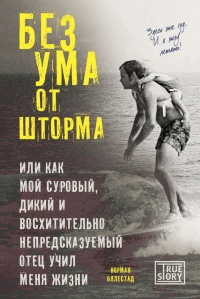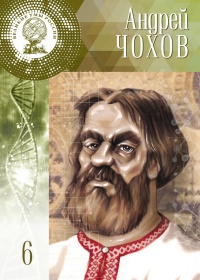Книга Маска Аполлона - Мэри Рено
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Какое-то время это продолжалось; потом вперед шагнул Дион; и проклятия сменились приветствиями. Дион поднял руку, прося тишины; и ему подарили ее, словно гирлянду. А он не стал ничего говорить, просто показал на Гераклида.
Теперь его стали слушать; а он чувствовал зрителя, это был его величайший дар. И выступил он очень умно: коротко. Показал на Диона; сказал, что достоинства этого человека победили его прежнюю враждебность; а теперь ему ничего больше не остаётся, как полагаться на великодушие, которого он не заслужил. В будущем, если только у него есть будущее, он надеется научиться.
Аудитория его освистала. В отличие от Диона, все слышали, что он говорил прежде; и все знали, чего всё это стоит. Гелланик — или кто-то, очень на него похожий, — вскочил и попросил, чтобы город избавили от той двуязыкой змеи. За ним выступили еще двое-трое, говоря, что этот человек навредил городу больше, чем сам Дионисий. Крики за смерть стали вдвое громче… Но тут стало ясно, что Дион собирается говорить; и в театре стало тихо, как перед трагедией.
— Сограждане, — начал он, — я солдат. (Бурные аплодисменты.) В молодости меня здесь учили, как и других офицеров, оружию, стратегии и заботе о своих людях. (Ликование со стороны солдат.) Потом меня услали. Но вместо того, чтобы проводить дни свои в праздности, я снова пошел учиться. Пошел в афинскую Академию, которая учит людей быть настоящими людьми. Вместо карфагенян, я учился побеждать ярость и мстительность; чтобы не складывать оружие перед ними, а хранить щит самообладания. Если мы воздаём добром лишь тем, перед кем сами в долгу, — в чём здесь заслуга? Настоящая заслуга в том, чтобы даже за зло воздать добром. Победы в войне преходящи; время может изменить всё; но превзойти кого-нибудь в милосердии и справедливости, — вот он, неувядающий венок! Вот единственная победа, какую я хотел бы одержать над этими людьми. И я уверен, если вы мне это позволите, оно обогатит нас всех. Потому что думаю, ни одно сердце человеческое не потеряно для памяти о добре, из которого сотворены наши души, настолько, чтобы ему нельзя было напомнить; как глаза промывают. Люди грешат от незнания. Покажите им добро, и они будут знать счастье своё. Давайте же покажем его сейчас вот этим людям; и я уверен, в ближайшие годы они нам вернут его сторицей. Если я заслужил у вас хоть какое-то одолжение, мужи сиракузские, не толкайте меня во зло; позвольте пойти домой, свободным от него. Только боги могут мстить.
Наступила долгая тишина, только переговаривались потихоньку. Я подумал, что бы сейчас творилось, если бы пьеса шла: аплодисменты могли и действие остановить. Это было прекрасно, величественно; сказано от всей души человеком, и голос которого, и внешность соответствовали каждому слову. И всё-таки сидел я там в десятом ряду с сухими глазами; и роль моя в той беспокойной тишине давалась мне тяжко. Когда он говорил в Леонтинах, всё было по-другому… Моя вина, что ли? Так я этого и не понял даже на следующий день, когда сел возле Рупилиуса со своим рассказом.
Сначала он слушал, перебивая возгласами; потом молча, в точности как сиракузцы. В конце спросил:
— И они их простили?
— Простили ради Диона. Так они и ушли с друзьями. Конечно, там были еще какие-то речи, но я ушел, не дождавшись конца.
Он тяжко вдохнул.
— В чём дело? — спрашиваю. Я и себя спрашивал; и он, наверно, это видел.
— А ты веришь, Никерат, что Гераклид сдержит слово своё? — Я покачал головой. — Ну так какие могут быть вопросы?
— Но, быть может, Дион всё равно прав… Ведь он в добродетели победил.
Он потянулся ко мне, заворчав от боли в ноге, и похлопал меня по колену.
— Не обижайся, — говорит, — я попросту, как меж друзьями. Дион — лучший человек, кого я знаю; готов умереть за него и не стану спрашивать зачем. Но в глубине души, он всё равно грек. Был бы он римлянин, он бы знал, почему Гераклида прощать нельзя. В Риме и ты не стал бы спрашивать.
Все римляне ужасно гордятся обычаями своей страны, хотя не могут найти там себе применения и вынуждены сдавать в наем оружие своё. А Рупилиус мне очень нравился, на самом деле. Увидев, что я рассердился, он продолжил:
— Вы, греки, я знаю, превосходите нас римлян во всём, что связано с дарами Аполлона. Но в дарах Юпитера, то есть Зевса, вы иногда кажетесь просто детьми. Каждый человек отдельно стоит перед городом; каждый город перед Грецией… И уж сколько раз из этого беды выходили, а вы всё с начала. Я думал, Дион другой. Если людям было нужно, он никогда не оглядывался ни на жизнь свою, ни на то что было у него. Но ты посмотри, что он натворил сейчас. Только потому, что тот человек ему личный враг, и он хочет превзойти его в добродетели, он его спускает с цепи на сиракузцев; будто Гераклид и не виноват, что там на улицах накануне бойня была. А если он не исправится? Ведь Дион не бог, ничего гарантировать он не может, — не повторится такое же? Клянусь Геркулесом, хотя бы на ссылке он мог настоять! С римской точки зрения, он воспользовался общественной собственностью; словно казну себе присвоил. Не то чтобы я его а это порицаю. Он грек, он думает как грек, вот и всё тут. И всё равно он самый лучший генерал, под которым я служил. Совершенство, конечно, только для богов… Но что правда — правда.
Наверно, мы оба знали, что до сих пор его любим; это и помогало нам разговаривать.
— Он был как бог, Рупилиус, — сказал я. — А спускаться должно быть трудно. Величайшие наши скульпторы оставляют статуи чуть-чуть недоделанными, чтобы богов не искушать. Если кто-то побывал богом, он должен и быть совершенен, и смотреться совершенным. Не знаю, как это кажется тебе, римлянину. А я грек. И мне от этого страшно.
На следующем Собрании, — едва успели мертвых похоронить и пленных отдать в Ортиджу за выкуп, — Гераклид предложил, чтобы Дион был провозглашен Верховным Главнокомандующим с неограниченной властью. Это был прежний титул Архонтов. Дион не стал ни отказываться, ни соглашаться, а оставил это народу. Дворянство и средние горожане были за; а простолюдины, среди которых болтались друзья Гераклида, стали превозносить его широту души и снова избрали его адмиралом, с тем же статусом.
Я репетировал «Персов»; но услышав эту новость на агоре в Леонтинах тотчас понёс ее Рупилиусу.
— О, Юпитер гремящий!.. — простонал он. — Этот парень даже зерновоз через проливы провести не может… Дион их остановил?
— А как? Он же торжественно простил Гераклида, при всех; а неограниченную власть он вообще не признаёт. Начни он возражать, — выглядел бы подозрительно со всех сторон.
— И Гераклид это знал. Нельзя было оставлять его в живых.
— Дион мне сказал однажды «Государство — это совокупность граждан. Если все они откажутся от собственной добродетели, то как смогут они построить общественное благо?» Конечно, это верно.
— Да? Ну и что?
Он потянулся за палкой; я ее вложил ему в руку.
— Не знаю, — говорю. — Даже Платон вернулся домой, еще раз подумать.