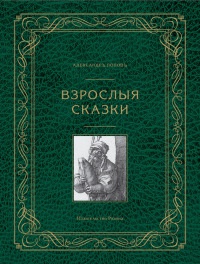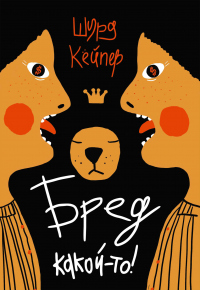Книга Зеленая мартышка - Наталья Галкина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Сережа по прозвищу Зубки? — перебил его Шарабан. — Такой узколицый, приветливый, улыбчивый, улыбается, а два клычка чуть длиннее, чем надо, как у зайчика, торчат? В «Демкниге» на углу Большой Морской книги продавал?
— Он самый. Вот купил он себе проклятый кожаный пиджак, давно мечтал, да после работы в свой спальный район и поехал, а лето кончилось, давно белые ночи прошли, бабье лето с теплыми вечерами стояло, ну, и нашли его прохожие запоздалые без памяти, без пиджака; а вскорости после того, как «скорая» его в больницу дежурную домчала, он, не приходя в сознание, от тяжелейшей черепно-мозговой травмы и умер. Вон его стакан стоит.
— Ты напрасно на осеннюю темноту грешишь, — сказал Шарабан, видать, тоже перекуривший, охрипнув с ходу. — Им что белая ночь, что черная, все едино. Средь бела дня за так убьют, не чихнут.
— Потом, — продолжал Лузин, — другой мой друг, музыкант, после концерта домой поздненько отправился, его убили в собственной парадной, умер не сразу, как потом говорили, да никто мимо не шел, а жена с дочерью решили, что банкет после концерта, уснули. Утром дворник дверь открыл, уж поздно было. Стакан рядом с Сережиным.
Кот во сне зубами защелкал, вздрагивал, скреб изнутри когтями картонный домишко свой.
— А еще один мой друг, режиссер, без вести пропал. Он, надо сказать, много лет на Север ездил, театральную студию вел, лекции читал; так отыскали его как раз люди северного народа, приехали, искали, морги обходили, там и нашелся, не просто убитый, а утопленный в Черной речке, да еще и кисти рук отрублены.
— Зачем?
— Кто знает? Северные люди поклялись сами найти убийц.
— Нашли?
— Не слыхал. Может, еще ищут. Ты вроде спрашивал, что у меня в кофре?
— Спрашивал.
— Открой, посмотри.
— Пусто, — сказал Шарабан. — Для чего ты пустой кофр таскаешь?
— В память о Борисе Смелове. Ты его знал?
— Нет. Только слышал. У нас общие знакомые имелись. Но не встретились мы, не пришлось.
— Вон его фото, пейзаж, на который ты, войдя, загляделся. Он любил по ночам по городу ходить, с юности, на особую сверхчувствительную пленку ночами снимать, ах, какой фотограф! запечатлел как раз тот Город, который мы любили и любим, без слюней и гламура, без брендов и сиропа, обшарпанный, неухоженный, непродающийся, прекрасный, теперь фотографы всего мира его фотографии смотрят с восторгом. Не понял, что время гулять по ночам с доверием к прогулке и к попадающимся прохожим ушло, кончилось, всё, баста, если ходишь, ходи с «Макаровым». Встретила его какая-то сволочь уголовная, всего-то квартала три до дома ему дойти оставалось, думал о своем, навеселе был слегка. Ночью мороз сильный ударил. Утром увидели: лежит Смелов на ступеньках василеостровской часовни Спиридона Тримифунтского с разбитой головой да с пустым кофром, раненый, замерз. У него техника дорогая была, поживился убийца проклятый.
— И тоже никого не нашли? — тихо спросил Шарабан.
— Кто искал-то? Это только в детективных сериалах отпечатки пальцев, экспертиза ДНК, нитка с обшлага, хрена в ступе, фу ты, ну ты. Был бы какой богач, банкир, политик, хозяин ОАО или еще чего на три буквы; а тут кто? — великий фотограф по-нашему, нищеброд пьяненький по-ихнему. И старика так мне жаль. Всемером забить восьмидесятидвухлетнего, это надо же. Где мы живем! Как мы живем! Какая мерзость!
— А последний стакан чей?
— Старика, я же говорил. Ты хочешь сказать, предпоследний? Вот тут дело невинное. Прапрадед мой отыскался.
— Узнал, где похоронен? Могилу навещаешь?
— Нет, — тень улыбки снова тронула лузинские губы. — Знаю теперь, где жил. Дом знаю. Искал, не находил. Думал, где-то у собора на Измайловском. Ошибался, фантазировал. Теперь адрес его мне известен.
Шарабан поднялся закрыть форточку, возвращаясь к столу, увидел, что Лузин задремал в кресле, единственном старинном в компании бывалых табуреток. Он налил себе еще, зажмурившись, выпил, послушал, как похрапывает Мардарий, как скрежещет зубами во сне его дискретный названый хозяин, задул свечи. Подхватил свой бесформенный портфель. Проснувшийся Лузин пробормотал:
— Счастье твое, что тебя не коснулась наша подлая городская уголовщина…
— Не коснулась? — обернулся Шарабан. — Да из-за нее в один день недобрый просто кончилась моя жизнь.
— А сейчас у тебя что? — спросил открывший глаза Лузин.
— Смертный сон, — отвечал Шарабан, идя к выходу.
— Как я рад, — сказал тут Лузин совершенно трезвым голосом, — что мы с тобой в твоем смертном сне встретились, а по вечерам читаешь ты мне вслух. Удачи тебе, вечеров посветлее, дружок, а когда вовсе одолеет тебя печаль, станешь ты глух к старым любимым песням, пусть Фредди с Монсеррат споют тебе «Барселону»!
Но пока в сентенции своей Лузин дошел до слов «тебе “Барселону”», Шарабан успел сбежать по дематериализующейся лестнице во двор, хлопнуть дверью и, набрав горсть из сугроба, умыться снегом.
Невесело брел он по Загородному, заметенному, непроходимому. «Если Лузин знает о стольких убийствах и избиениях, если знаю то, что знаю, я, два случайно взятых человека, какова же статистика разгула сил тьмы в городской нашей нынешней жизни?! Господи, упокой невинно убиенных рабов Твоих и даруй им Царствие Небесное». Вечерняя метель лепила ему в лицо, он плакал, прикрываясь ею. Вслед ему хихикнула стайка девиц с, восемь-девок-один-я, всеобщим любимцем парнишкой: надо же, идет здоровенный, плохо одетый, в отстойном прикиде пьянчуга, очкастый, со страшнющим портфелем, плачет, что-то приговаривает, бомжует.
— Интересно, что у него в портфеле?
— Пустая бутылка, недоеденный биг-мак с помойки и грязные кальсоны.
— Пари? Отберем портфель? У меня газовый баллончик есть.
— Ой, да ладно, пошли, холодно, ну его на хрен.
Находка
— Сами, что ли, переплетали? — Лузин разглядывал книжку в ситцевом переплете. — И тряпка-то необычная, как тест на дальтонизм.
— Сами, конечно, своеручно. — Шарабан разбирал очередную коробку библиотеки братьев-близнецов, надеясь набрести на продолжение романа или комментарии к нему. — Я не помню тестов на дальтонизм.
— Здрасьте, таблицы Рабкина, разве, когда на права сдают, их не проходят? Какая у тебя на дне коробки толстая книжка. Тоже в самодельном переплете, без заглавия. Открой, посмотри, что это. У меня такого формата «Дон Кихот» есть старинный, однотомный.
— Нет, не могу открыть.
— Что значит — не могу?
— Она склеена.
— Так открой на любой странице.
— Она вся склеена.
И пока Лузин в недоумении вертел книгу в руках, Шарабан открыл свой гипертрофированный портфель, оттуда выудил бритву профессионального севильского цирюльника, — впрочем, опасными бритвами в первой половине двадцатого века все брились на всех широтах.