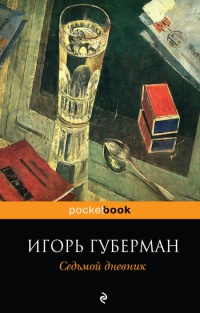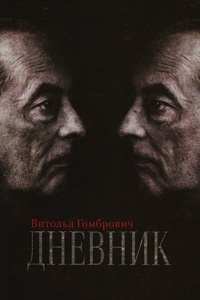Книга Но кто мы и откуда - Павел Финн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Чтение мое получалось в чрезвычайно странном виде. Это была дикая смесь Шекспира и Островского, Пушкина и Гайдара, Гофмана, Киплинга, Конан-Дойля, Дюма, Диккенса и Исидора Штока.
Два писателя, две няньки моего детства, рассказывали мне про самое лучшее и делали меня человеком — Толстой и Дюма.
Диккенс. Конечно же, Диккенс! Вместе с мамой, очень рано — еще даже она мне читала. Вслух. Наверное, это было едва ли не первое большое чтение. Твист. Домби. Пип. Копперфильд.
Или этот умильный и коварный лис с иллюстраций к “Рейнеке-Лису” Гёте. Большая и тонкая черная книга, я любил рассматривать в ней человеко-зверей, но не любил читать. Лис в шляпе и с золотой цепью на груди, поднимающийся по ступеням будто из какого-то подземелья с блюдом в выставленных вперед жестоких, когтистых лапах.
Первая встреча с Гофманом, первая книжка — маленькая, оранжевая, — сейчас она у меня снова есть, “Academia”. На обложке растерянное лицо, будто бы током поднятые вверх все волосы-пружинки, но главная — привлекательная — странность: надпись — Э. Т. А. Гофман. Странность и привлекательность в первых трех буквах, которые воспринимаются, конечно, как “ЭТО” — это Гофман!
На самом деле я-то — что? — больше люблю “детского”, а не “взрослого” Гофмана? Гофмана страхов, превращений и марципановых радостей больше, чем Гофмана сарказмов, ужимок и нестрашных ужасов?
Что произошло со мной за то время — с того дня, — когда я вообразил себя Щелкунчиком? Уродливым, несчастным, одиноким и отважным. Наступившим на жирную королеву-мышь.
Я учился остроумию у Ильфа и Олеши, интонации Бабеля до сих пор не дают мне покоя. Перечитал “Любку Казак” и аж мороз по коже и теплота в глазах от восторга перед совершенством. А они его убили!
В моем отношении к книге есть, кажется, что-то чувственное. Может, поэтому я так люблю старые книги. Смотреть на них, даже не читая, трогать. Лохматые, зачитанные, рассыпающиеся, с чьими-то пометками — все равно. Они часть чего-то такого великого и необъяснимого, без чего не было бы моей жизни.
Я рад, что раскопал в развале на полках букинистического отдела в книжном на Тверской эту потрепанную книгу 1929-го года издания — Леонид Гроссман, “Борьба за стиль” — разрисованную чьей-то, наверняка давно умершей, — детской рукой. Пусть сохраняются в моих старых книгах забытые там старые неясные записки, неизвестно чьей рукой и кому написанные — обрывки — отрывки — чьих-то давно исчезнувших связей, отношений… Жизней…
Сегодня купил на Тверской — “Серапионовы братья. Альманах первый. «Алконост». 1922 год”. Возникает какое-то особое чувство, когда я держу эту ветхую книжечку в руках. Вообще, это удивительное явление — энергия старых книжек. Особенно книг начала века и двадцатых годов. В них какой-то заряд. И ведь именно что не самых старинных. Есть ведь у меня и столетние, и стодвадцатилетние. Но от них наслаждение, умиление. А в книгах двадцатых годов — ощутимая душой сила, таинственный магнетизм.
А вот еще — какая прелесть, вторая покупка: “А. Толстой, П. Щеголев. Азеф. Пьеса. Изд-во «Круг». 1926 год”. Действие первое, картина первая: “Школа филеров”. Первая ремарка: “Огромная низкая пустая комната в помещении Московской охранки в Гнездниковском переулке”.
Особенная прелесть в том, что как раз из этого здания, где ныне помещается на месте охранки — или вместо охранки — наше кинематографическое начальство, я вышел сегодня и направился в букинистический отдел книжного магазина напротив, через улицу, где и купил эту книгу.
Книга мне нравится как вещь. Книга мне нравится как “источник знаний”. Книга мне нравится как — всё. Книги умеют манить и соблазнять. Книга — это сильное лекарство против тщеславия.
Тонкий золотой слой, который остается после прилива и отлива чтения.
Все новое надеть сразу, все вкусное съесть сразу, и все интересное прочитать или увидеть сразу. Не умею ничего раскладывать и распределять разумно и с выгодой для себя. Вот такой я, увы. Что уж теперь поделаешь…
Увидел у себя на столе третий том писем Пушкина, “Academia”, алчно схватил и отложил опять… Погибаю под тяжестью непрочитанного.
Почему никто не писал о том, что, кроме тайны писательства, сочинения, есть невероятная тайна чтения?
Только абсолютная беспорядочность, бессистемность чтения представляет для меня главный его смысл. Читать надо всё.
“Инстинкт книги есть только у немногих людей. Я помню, Мих. Петр. Соловьев, уже около 50-ти лет, непрерывно и много читал. Читал горячо и с интересом… Порядочно, но с таким же пылом, читал Влад. Соловьев. Л. Н. Толстой читал до самого конца жизни, и очень много и горячо. Но, вообще говоря, этот инстинкт редок, и мне встречались люди с университетским образованием, которые, кроме газет, ничего и никогда не читали…
Чтение, и сила, и напряженность его есть особый талант — талант умственного поедания, талант душевного аппетита, «охотка к еде книг»…”
Вампиризм — мой — чтения, впивания в литературный текст, когда глаза — читающие, думающие, ищущие, как зубы у вампира, — инструмент наслаждения и существования. Когда какой-нибудь один с виду не очень существенный “абзац” дает больше “крови” — привет Розанову! — чем все любовники Дракулы, вместе взятые.
Мне кажется, что я уже родился с желанием читать.
Я должен быть благодарен “Верке” — Вере Дмитриевне Богдановой — ее квартире, ее шкафам с книгами.
Краду бархатную книжечку у Веры Дмитриевны, соблазненный ее красотой. Выступление Сталина на каком-то съезде партии. И с чувством дарю ее брату. Он приходит в ужас. Книга незаметно возвращается.
В самом нежном детстве я искренне желал ей смерти в необъяснимой надежде, что она завещает мне свою великую библиотеку. Она, конечно, со временем умерла без моих зловещих пожеланий, и ее муж, Николай Владимирович, тут же наконец-то с удовольствием заведший себе новую жену, пустил великую библиотеку на ветер.
Вера Дмитриевна научила меня читать в 44-м году. Первой книгой было сочинение ее мужа Николая Владимировича, детского писателя. Крупные буквы и картинки, изображающие приключения какого-то сорванца, но октябренка. Потом я перешел сразу на Шекспира. У нас был замечательный Шекспир, большие — парадные — книги с красивыми гравюрными иллюстрациями под прозрачной и туманной папиросной бумагой. Их потом в критический момент загнал отчим Борис Авилов.
Мы — нищие, мама, брат с голубыми глазами и я. И отчим-актер с утиным носом, которого я ненавижу.
— Денег нет, — сказала мама.
Как же быть, как жить дальше? Как жить, когда нет денег?
— Как выйти из материальной бездны?
Дома, которые сыграли странную, но явную роль в моей жизни. Дом Тоидзе… Дом Варшавских… И, конечно, дом Туров. Это всё были богатые дома. К ним добавить еще дом Богдановых, который тоже был по-своему богат — книги, великая библиотека… А дом Габриловичей?