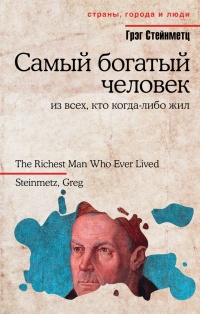Книга Макс Вебер. На рубеже двух эпох - Юрген Каубе
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Не исключено, что поспешная помолвка Хелены с Максом Вебером объясняется желанием вычеркнуть из памяти эту чудовищную историю и покинуть то место, в котором она разворачивалась. То, от чего Хелене так никогда и не удалось до конца избавиться, — это отчуждение от сексуальности. Во всяком случае, так это виделось ее сыну. «Гервинус, знаменитый историк, был маминым учителем, перед которым она преклонялась. С ним у мамы связано и ужасное воспоминание: охваченный внезапным желанием, он стал домогаться ее. Это повлияло на все ее последующее восприятие чувственной стороны жизни», — пишет Макс Вебер в 1910 году своему брату Артуру, пытаясь объяснить причины семейных конфликтов в прошлом[45]. Впрочем, и сама Хелена Вебер говорит о том же: «Ведь я еще принадлежу к той эпохе, когда тело имело право на существование только как вместилище души и ах, как же часто в браке я молила Бога о том, чтобы я, чтобы „он“ были освобождены от телесного бремени или умели подчинять его своей воле. Это, наверное, еще одно неизгладимое наследие моей матери и религиозно–пуританского происхождения обоих родителей»[46]. В обеих цитатах раскрывается то, что мы впоследствии увидим и в отношении переживаний самого Вебера: внутри семьи широко обсуждаются самые интимные биографические подробности. Так, например, тема сексуальности не просто не была запретной — о ней говорили часто и охотно, но при соблюдении норм речевого этикета.
Порой такое обсуждение не уменьшало, а только увеличивало эмоциональное бремя членов семьи Веберов. При любых обстоятельствах полагалось соблюдать приличия; так, на Гервинуса никто не подал в суд и даже не подверг обструкции, но, с другой стороны, члены семьи сообщали друг другу о случившемся в письмах, и в конце концов даже дети узнали о том, что их матери пришлось пережить в юности. Соблюдение приличий предполагало также, что пережившая сексуальную травму девушка должна была искать спасения в браке, хотя ей наверняка было известно (и в любом случае она узнала об этом в своей новой семье), что там от нее тоже ждут проявления сексуальности. Но, с другой стороны, что ей оставалось? Жизнь во второй половине XIX века многим, и особенно женщинам, казалась западней. В период между 1864 и 1880 годами у Хелены Вебер едва ли не каждые два года рождается ребенок. Тем не менее в этой западне ей видится моральный долг, требование принести себя в жертву. В то же время из ее самопожертвования вырастает ожидание того, что окружающие примут и поддержат ту картину мира, где за подобные жертвы полагается моральное вознаграждение. Но если отец Макса Вебера наслаждается требованиями, которые предъявляет к нему его профессия, а его собственные ожидания в отношении домашнего уклада также полностью совпадают с представлениями, принятыми в обществе (отлаженный быт, обходительная супруга, воспроизводство семьи), то матери ее ожидания приходится реализовывать в каком–то смысле в одиночку. При этом единственным надындивидуальным ресурсом ей служит религия, ставящая жертву во главу угла. Этим объясняется и морализаторский стиль ее воспитания. Неудивительно, что эта еще очень молодая женщина, на плечи которой целиком и полностью легла забота о доме и о многочисленных собственных детях, ищет поддержку в нравственных принципах.
Макс Вебер — первый из восьми детей; его называют продолжателем рода, а сам он в дальнейшем нередко берет на себя роль выразителя интересов своих братьев и сестер. Две сестры умирают рано — Анна в 1866 году сразу после рождения, Хелена в 1877‑м в возрасте четырех лет. Веберу на тот момент тринадцать, и он хорошо осознает и запоминает смерть сестры. Тетка Ида, с которой его мать поддерживала наиболее тесные отношения, в год его рождения потеряла двоих детей, в том числе и свою первую дочь, которая, прожив всего год, умерла не более чем за три недели до дня рождения Макса. Всего из восьми детей Иды лишь четверо перешагнули семилетний рубеж. В те времена это не было редкостью — у дяди Хелены Фалленштайн, Эдуарда Сушей, из девяти детей в младенческом или детском возрасте умерло шестеро[47]. Сама Хелена после рождения Макса долгое время лежит с температурой, о ребенке заботится кормилица, жена столяра, незадолго до этого также разрешившаяся от бремени. В два года Макс Вебер переносит менингит, который в то время еще не умели диагностировать по возбудителю, не говоря уже о медикаментозном лечении. После болезни, по воспоминаниям матери, в его характере появилась тревожность. Это пока еще прелюдия к долгой истории недугов Макса Вебера. В то же время с самого раннего детства и до зрелого возраста Макс был окружен материнской любовью. Сама Хелена Вебер пишет: «Всякому личному удовольствию был положен конец, но за это мне была дарована глубочайшая радость — исполнять свой материнский долг, отрешившись от всего остального»[48].
Хелена и ее сестра Ида воспитывались на трактатах англо–саксонских теологов Уильяма Эллери Ченнинга и Теодора Паркера, которые им читала вслух их мать Эмилия Фалленштайн. Эти работы, написанные в первой половине XIX века, были призваны противостоять строгому кальвинизму новой родины их авторов — Америки, где по отношению к карающему богу допускалось только одно чувство — страх. Ченнинг писал о том, что мы познаем бога посредством собственной души, и это доказывает, что между душой и богом есть определенное сходство: «Идея бога, возвышенная и внушающая благоговение, — это идея нашей собственной духовной сущности, очищенная и продолженная в бесконечность. В нас самих заложены элементы божественного. Поэтому сходство бога и человека отнюдь не только метафорическое. Это, скорее, сходство родителя и ребенка, сходство двух родных существ»[49].
Позднее сестры будут искать в этих сочинениях утешения в связи со смертью их детей. Как бы ни была высока вероятность смерти ребенка — сразу после рождения или в детском возрасте, — в те времена с ней было невозможно смириться, смягчив удар судьбы с помощью заученных религиозных обрядов или стоической невозмутимости. Вероятно, это было связано с тем, что во всех без исключения областях наблюдался явный прогресс, а ситуация с младенческой смертностью так и не изменилась на протяжении всего XIX века. В Германии она даже увеличилась в период между 1850 и 1875 годами, а в Англии, где ее показатели были существенно ниже, осталась практически без изменений с 1840 по 1900 год. Британский премьер–министр Уильям Гладстон, у которого в 1850 году от менингита умерла четырехлетняя дочь, пишет в своем дневнике о том, что смотреть, «как это маленькое существо, никогда не совершившее ни одного греха, „сопоставимого с грехом Адама”, расплачивается жизнью за наш род», — это тяжелое испытание, и в такие минуты кажется, что религиозное понимание действительности вот–вот рухнет. Середина века стала едва ли не зримым рубежом, после которого в обществе постепенно начал нарастать протест против детской смертности — например, в фортепьянном трио соль–минор оп. 15 Берджиха Сметаны, у которого за три года, с 1854 по 1856‑й, в возрасте от двух до четырех лет умерли трое из четырех детей. Для намечающегося разрыва между «практической теологией» и семейной трагедией характерно признание одной матери из знаменитой семьи пасторов англиканской церкви Биккерстетов, которая после смерти своего новорожденного сына в 1854 году писала: «В отношении того, что напоминает мне о моем малыше, я порой боюсь полагаться на свои чувства. Я могу думать о своем ребенке, представляя себе его на небесах, но не могу думать о своем малыше, которого я потеряла; думая о нем, я слишком сильно желаю снова обрести такой же источник радости»[50].