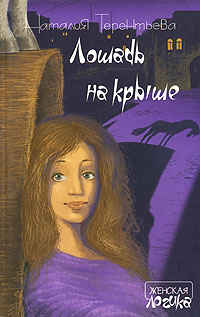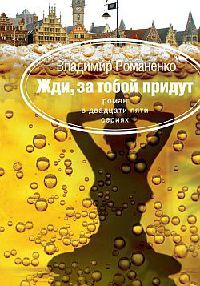Книга Дивная книга истин - Сара Уинман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Передай… – прошептал Дуги.
Что? – не понял Дрейк, наклоняясь над ним.
Передай.
Передать? Что передать?
Письмо.
Я?
Отвези его моему отцу. В Корнуолл. Когда все закончится. Когда ты вернешься. Скажи ему, что я держался молодцом…
Ты и сейчас молодцом…
…и расскажи обо мне что-нибудь хорошее.
На дороге показалась колонна танков, солдаты приветствовали их криками. Армия снова двинулась в наступление. Союзники продолжали отвоевывать Францию.
Обещай мне, Фрэнсис Дрейк. Эй, я тебя не слышу.
Я здесь, сказал Дрейк и наклонился ниже.
Обещай мне, сказал Дуги Арнольд.
Обещаю, сказал Дрейк. Я передам твое письмо.
От вокзала Виктория Дрейк проехал на метро до Фаррингдона и там вышел из-под земли в прохладные мглистые сумерки. Здоровенная крыса пересекла дорогу, мельком бросив на него недовольный взгляд.
Да, я вернулся, сказал ей Дрейк и зашагал по Тернмилл-стрит.
Слева от него грохотали поезда, а за спиной в бдительном напряжении застыл купол собора Святого Павла. В воздухе висел запах гари, в рот набивалась пыль. Он уже успел забыть, каково это в Лондоне и до чего здесь многолюдно: все спешили по домам после рабочего дня. Хотя на самом деле ничего не забылось; ведь сам он был плоть от плоти этого города, подарившего ему жизнь. Поднялся ветер, над крышами домов возник и начал быстро разрастаться темный облачный фронт. Дрейк прибавил шагу, пересек улицу и двинулся дальше по Клеркенуэлл-Грин. В дверь ночлежки он заскочил всего за несколько секунд до того, как на улице хлынул ливень.
Ему сказали подождать, и он стоял перед столиком в вестибюле; снаружи доносился шелест кативших по лужам колес. В комнате наверху кто-то всем телом рухнул на кровать, скрипнули потолочные балки, и лампа над головой Дрейка закачалась, то освещая, то погружая в тень его лицо. Пахло сырой шерстью вперемешку с подгоревшей картофельной запеканкой, и он вновь ощутил рвотные позывы. Мимо прошла молодая женщина; он отвел взгляд, а она погасила улыбку. На его лице еще сохранялся загар после двух лет, проведенных под французским солнцем; тело его сформировали военные будни и тяжелый физический труд. Шляпа была французская, как и сигареты. Путешествовал он налегке; все необходимые вещи поместились в небольшом чемодане, стоявшем у его ног. Он проводил взглядом женщину, поднимавшуюся по ступенькам. Стройные ноги. В общей гостиной позади него пел по радио Луи Армстронг.
Он посмотрел на телефон в вестибюле и вдруг понял, что в целом свете нет ни единого человека, кому он мог бы сейчас позвонить. Почувствовал тяжесть в грудной клетке, услышал ленивое журчание канализации под полом. Наклонившись вперед, сделал медленный глубокий вдох.
Ваша комната готова, объявила миссис Марш, домовладелица, спустившись по лестнице и вручая ему ключи вместе с нарезанной квадратиками газетой.
Уборная в коридоре, сказала она. Спускайте воду экономно.
Да, это Англия, подумал он.
Комнатка имела жалкий вид, но простыни были чистыми. Лампа на тумбочке отбрасывала на постель унылое пятно света, а когда он попытался включить люстру под потолком, там не оказалась лампочки. Синие обои обтрепались по верхнему краю, где их покрывал дымчатый налет плесени; над изголовьем кровати висел аляповатый натюрморт с букетом хризантем. Он присел на корточки и включил электрический обогреватель; лишь одна из трубок порозовела, да и от нее тепла почти не было. Он подошел к окну и посмотрел на грязную ночную улицу и на облезлые фасады теснившихся через дорогу домов – в некоторых окна были заколочены досками, а в одном здании оконные проемы зияли черной пустотой. Он задернул шторы. Вынул письмо из кармана пиджака и положил его на каминную полку. Здесь, в Англии, по завершении первого этапа поездки, письмо выглядело как-то по-другому. Пятно, прежде казавшееся следом от рыжей глины, в действительности было запекшейся кровью. Неожиданно он услышал собственные извинения по поводу столь запоздалого приезда. Слова как будто произносились кем-то другим. В голове все смешалось, он продолжал говорить вещи, которые никогда ранее не говорил, и с удивлением отметил, что его речь сильно смахивает на лепет провинившегося ребенка.
Он опустился на кровать. Комковатый матрас вступил в неприветливый контакт с его седалищем. Достал пачку «Голуаза». Снова отметил дрожь в руках, – интересно, когда это началось? Закурил и выпустил едкий дым в сторону пестрого абажура вверху. В полумраке дым скручивался спиралью и зависал под потолком толстыми пластами, как туман. Он закрыл глаза и лег на спину, воображая, что ему тепло, а вовсе не холодно. Воображая, что слышит галдеж чаек на морском берегу, а не перебранку в соседней комнате. Воображая, что находится в другом месте, а не в этой унылой клетушке.
После войны он попал на юг Франции, где солнце ласкало кожу, а люди были искренне приветливы. С улыбкой он вспомнил свое любимое кафе ранним утром, столики под открытым небом, густейший черный кофе в маленькой чашечке и рыбаков, возвращавшихся в порт, чтобы продать осьминогов и морских ежей прямо на пристани. Вспомнил рыбацкие домики в пастельных тонах, особенно живописные на закате, когда свет становится густым и тягучим, как сироп. Он разгружал фургоны с овощами, подавал напитки в кафе, строил навесы, эллинги… черт, да он делал все, что угодно, и для него всегда находилась работа, потому что он был Освободителем Франции. Женщины также проявляли к нему интерес и перед встречей – на всякий случай – брызгали духами в интимных местах, но он избегал женщин, чувствуя, что все их прелести не выводят его мужское достоинство из состояния, подобного мягкому сыру бри.
Свободное время он проводил в бесцельных прогулках по окрестностям, заставляя себя верить, что ничего плохого с ним не случилось, что все насилие, свидетелем и участником которого он являлся, – насилие по отношению к мужчинам вроде него самого или женщинам вроде его матери – было вызвано необходимостью и никак не отразилось на нем самом, на его способности к состраданию. Война стала для него первым опытом насилия. В детстве он, как и многие, старался держаться подальше от грубых и буйных мужчин. Однако эти мужчины замечали в нем нечто, какой-то душевный надлом при детской чистоте и мягкосердечии, и порой оказывали ему покровительство, словно он был зеркальным отражением их собственных пропащих душ.
По выходным, после дождя, он строил на пляже песочные замки. Потом эти замки превращались в целые города с переплетениями улиц, с каналами и лодками, со множеством сказочных деталей, и все это доставляло ему утешение. Таким манером он как бы избавлялся от всего неприятного – всего гадкого и зловонного – из своего прошлого, зарывая его в песок, как собака закапывает свои экскременты.
Он мог бы и дальше жить в тех местах. Сидеть за столиком на веранде, вечный незнакомец среди знакомых людей, никогда не вспоминая о письме или о возвращении в Англию, ибо мыслями он был далек от этого, как луна, и так же печально-безмятежен. И это было прекрасно. На протяжении целого года. Да, это было чертовски parfait[12].