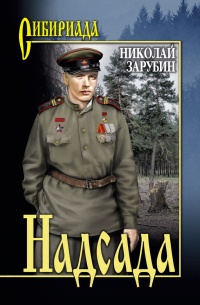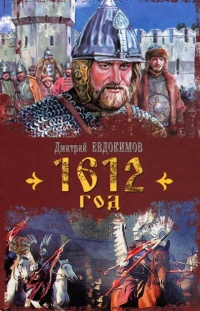Книга Духов день - Николай Зарубин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Хотя и тут надо бы заметить, что для улицы у ребятни времени оставалось мало: большая часть домашней работенки была переложена матерями на плечи тогдашних мальчишек и девчонок, взрослеющих в те ненастные для страны годы с невероятной быстротой и настырностью. И спрашивали матери с ребятни со всей строгостью, выражающейся в, может быть, излишней требовательности, а порой и подзатыльниках, которые отпускались с легкостью и от которых увернуться не было никакой возможности. Нередко за ребятней приглядывали живые еще в иных семьях бабушки, а эти и вовсе спуску не давали, правда, и жалели внуков.
Надо отметить и то, что в таких семьях ребятне жилось полегче и посытнее, так как старики лучше от себя оторвут, чем дадут внучатам голодать.
Васильевна часто как бы заглядывает внутрь себя, цепляясь памятью за дорогие сердцу воспоминания. Воспоминания те становятся почти физически осязаемыми и приближенными на целых шестьдесят лет, что пронеслись с водами речки Курзанки с невероятной быстротечностью, по которым прокатилась она с горки, именуемой жизнью, оказавшись у самого ее подножия. Инерция движения еще сохранилась, но явью неотвратной пришло и осознание: и инерция вот-вот кончится, после чего последует остановка. Полная остановка. Тогда уж – все, конец. И понесут Васильевну наперед ногами на ближайший погост, где давно упокоили свои косточки бабушка с дедушкой, мать Пелагея Димитриевна, отец Василий Прокопьевич и прочие близкие ей единокровные люди.
Э-эх, не вернуть прошлое, не оказаться вдруг в молодых летах, не изойти в крике от боли, когда на свет нарождается твой первенец-дитятя, и не порадоваться его неумелым еще шажкам, словам малоосмысленным, но возвещающим о складывающемся характере будущего человека.
Э-эх…
Васильевна вздыхает, машинально осматривается по сторонам, желая удостовериться, что никто из окружающих не приметил ее, будто омертвелого, лица, устремленного в одну точку остановившегося взгляда человека, углубленного в собственные мысли.
«Ну и ладно, – думает про себя. – Кому какое до меня дело, у каждого свои болячки…»
У каждого здесь в комитете солдатских матерей, председателем коего она была избрана лет десять назад, и вправду свои болячки. Приходят сюда женщины для одного – обнажить те свои болячки, а уж она, Васильевна то есть, должна принять какое-то решение, куда-то сходить, о чем-то в каких-то кабинетах чиновников местной власти похлопотать, а иначе для чего ж она здесь поставлена?
И Васильевна ходит. У кого-то без вести пропал сын в Чечне и убитая горем мать который год не может достучаться до военного ведомства, чтобы иметь точное представление о месте его пребывания, а может быть, и о смерти. У кого-то хотят отправить больного сына в армию. У вовсе молодой вдовы той же чеченской войны нет жилья.
– Василевна, – просит с мольбой в голосе иная, – похлопочи, голуба, о сынке-то моем. Может, живой сынок-то, кровинушка моя ненаглядная, голодный-холодный, может, ждет не дождется мамкиной весточки… А?.. Похлопочи…
– Василевна, – стонет другая, – ведь в прошлую комиссию в военкомате сына-то моего, Андрюшку, забраковали, а ныне поставили в больничной карте, мол, годен для службы – и все тут. Разберись-ка… А какой он служака, если сердечник. Сгинет ведь не за грош…
Васильевна ходит. И добивается желаемого, потому что у самой младший сыночек, Игорек, пал на той чеченской войне и она, как никто другой, способна понять материнское горе. Вместе с цинковым гробом прислали матери орден Мужества, которым Игорек награжден был посмертно. Пустая железяка, да дорогая. Его вместе с орденом Солдатской Славы, что остался после отца Василия Прокопьевича, она приноровилась пристегивать к груди, когда домашние садились за праздничный стол.
– А чтобы и самой не забывать, и другим не давать, – отвечала на вопросы родни об орденах. И показывала пальцем: – Этот в память об отце, что проливал кровь на фронтах Великой Отечественной, а этот – о погибшем в чеченскую сыночке.
Родные попривыкли к выходкам хозяйки квартиры – и отставали. С годами спрашивать стали меньше, отчего Васильевна даже стала чувствовать некоторую собственную обделенность в чем-то заветном и дорогом.
«Забывать, видно, стали о войне-то люди. Даже сыновья о погибшем брате редко вспоминают, – думала в иные моменты горестно. – Черствеет народишко сердцем, скудеет памятью».
Народ и в самом деле скудел памятью. К примеру, недавно сорокалетний сосед Васильевны – Дмитрий Соболев, брякнул ни с того ни с сего, мол, неизвестно еще кто победил в Великую Отечественную, СССР или американцы. Это надо же сказать: а-ме-ри-кан-цы… Да что они могут эти американцы… Она-то хорошо помнит войну. Помнит, как спасали страну, как надсаживались, отдавая фронту последнее.
Поменьше бы мозолили глаза у телевизоров и «видиков» да побольше бы книжки добрые читали.
А эти, прости Господи, новые русские. Посмотришь, с виду – русские: обличьем, повадками, языком. И родители их – такие же русские, многих из которых она знала и знает. И живут в России, обирая народ в своих лавках.
Как это может быть: в одной лавке хлеб стоит десять рублей, в другой такой же хлеб стоит уже двадцать? Как?..
Или взять лекарства, без которых пожилому человеку хоть сразу ложись и помирай. В одной аптеке одна и та же упаковка может стоить пятьдесят рублей, в другой – все сто. Спрашивает какая-нибудь бабушка, отчего, мол, внучики, такая разница? Отвечают: разные поставщики.
И ведь никакие законы государства не ограничивают их алчность.
А как куражатся промеж собою, на каких машинах ездят, как норку задирают – плюнуть да пройти мимо. Живите как хотите, только не забывайте, из каких яиц вылупились, из какого корыта кормитесь.
Мало-помалу Васильевна стала делить людей на «новых», или как бы переродившихся внутренней своей сутью, и на обычных, то есть таких, как она сама. «Новых» было немного, но они уже с присущей им наглостью старались переделать жизнь под себя, видимо, чувствуя себя хозяевами этой жизни.
«Не-ет, – думала иной раз, – никакие вы не хозяева, а так, перевертыши. Как к перевертышам к вам следует и относиться. А может, стоит вас и пожалеть – за близорукость, за самонадеянность, за недоданную вам в свое время вашими родителями любовь. Ведь известно: выросшие без любви дети нередко становятся зверенышами в человеческом обличье.
Еще зорче поглядывала Васильевна вокруг, понимая, что эта «новая поросль» доморощенных капиталистов – порождение происходивших в стране перемен, противостоять которым можно только крепкой памятью. И еще ревностнее служила в своем комитете, ютившемся в малюсенькой комнатушке в Доме ветеранов, где она сидела в единственном числе среди бумаг, папок с бумагами же, среди томов книг о войне.
Отец, Василий Прокопьевич, благополучно вернулся в конце 47-го, но долго не зажился на свете – сказалось то нечеловеческое напряжение, без которого победить страшного и наглого ворога было просто невозможно. Она его любила той безоглядной дочерней любовью, какою любят самого близкого и родного человека, стараясь всякую минуту оказаться рядом. Любил и он ее, называя ласково Васильком – Васильевну родители назвали Василисой в честь бабушки, Василисы Гаврииловны. Имя красивое, старинное, но неудобное для произношения. Видно, потому и окружающие обращались к ней по отчеству.