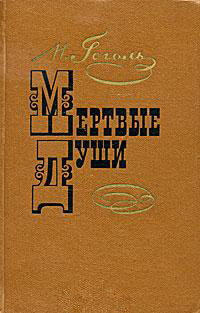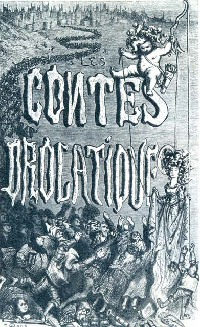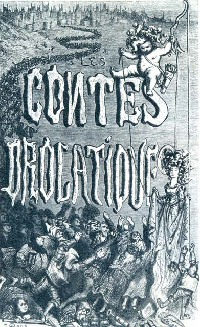Книга Маруся отравилась. Секс и смерть в 1920-е - Дмитрий Быков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Евгений Наседкин
Допрошенный мною в качестве свидетеля 21 июня 1925 года Наседкин, Евгений Иванович, 17 лет, ученик фабзавуча, грамотный, комсомолец, показал:
— Я, Наседкин, познакомился с Голубевой в ноябре прошлого года и до ее скрытия с нею гулял. Она мне нравилась. В близких отношениях я с нею не был, а гулял, как вся молодежь. Гуляя со мной, она неоднократно говорила, что ей очень надоело жить, так как, по ее словам, правды на свете мало и счастья тоже. Однажды, когда мы проходили по кладбищу, она сказала, что знает уже все и больше ей знать нечего и неинтересно. Я ей ответил, что она забывает великую роль молодежи, но она только засмеялась и говорит: «Молодежь — это и есть я. Что же мне для себя выворачиваться наизнанку?» По моему мнению, Шура была девочка порывистая, с неустановившимися взглядами, но определенно хорошая. Она была очень отзывчивым товарищем, и про всякое свое огорчение ей можно было рассказывать. Недели три назад я шел с ней в парке. Она говорит: «Давай, Женя, присядем — я тебе должна сказать про что-то». Мы сели на лавочке, она вынула из-за кофты револьвер и говорит: «Все-таки одной страшно. Давай вместе — с тобой я не боюсь». Я стал ее отговаривать, но Шура очень горячо меня упрашивала и говорила, что там как раз два патрона. Тогда я сказал, что сейчас я ни за что не согласен, пусть она подождет, когда я кончу школу, а тогда будет видно. Потом я ее спросил: где она достала револьвер? Она ответила, что ей дал знакомый милиционер, и назвала его фамилию, но фамилию я позабыл. Но только я думаю, что она револьвер украла, так как милиционерам, как я слышал, запрещено давать револьвер кому-нибудь. Гулять с Шурой мне запретил мой отец, секретарь фабкома. Когда я ей сказал об этом, она заплакала и говорит: «Если ты со мной гулять не будешь, тогда я уж наверное умру». Мы сидели на кладбище, на могиле ее какого-то родственника, и она очень плакала. Я спросил ее: «О чем же ты плачешь?» Она говорит: «О моей жизни, которую я уже прожила. Это только ты видишь меня живую, а я давно уже мертвая». Шура сказала эти слова так страшно, что я испугался и предложил ей идти домой. Видя, что ей тяжело запрещение моего отца гулять с нею, я продолжал видеться с нею тайно, мы встречались у ворот городского кладбища и оттуда шли к реке. Так я видел Шуру раз пять, во время прогулки она молчала и часто плакала. Когда она взяла надеть платье Маршевой и все отвернулись от нее, называя ее воровкой, я ее спросил: «Шура, зачем ты взяла Динино платье?» Она говорит: «Разве не все равно Дине, в каком платье я умру: у меня нет хорошего платья, чтобы умереть». Последний раз я видел Шуру за два дня до ее скрытия. Я ждал ее у кладбища, но она не пришла, тогда я пошел к ее дому и постучал в окошко, но она покачала головой в окно и не вышла. Больше показать ничего не могу.
Евдокия Маршева
Допрошенная мною в качестве свидетельницы 20 июня 1925 года Маршева, Евдокия Павловна, 20 лет, ученица фабзавуча, грамотная, комсомолка, показала:
— Я, Маршева, начала жить с Голубевой с ноября прошлого года; она пришла в общежитие и говорит, что мать у нее старого понятия, и им трудно, да и на фабрику ходить далеко. Я говорю: «Что ж, живи с нами, с нонешними матерями, оно верно, сладу нету». Мы стали жить вместе, и я ее очень жалела — такая она мне показалась хрупенькая и беспомощная, можно сказать, что первое время я прямо заботилась о ней, как о дите. К ней в то время парни не ходили, но о каком-то Серке она часто вспоминала и убивалась. Раз призналась мне, что жила с ним, а я ее успокаивала, что все мужчины одинаковы, хоть партейные, хоть и беспартейные, и девке легко пропасть ни за что. Так жили мы дружно, пока не обнаружилась ее подлая натура во всей красоте. Она очень нахально украла у меня платье и колечко с бирюзой и пошла в нем гулять на Троицу. Не была она дома цельных два дня, и я думала, что она совсем сбежала, — пошла и заявила на нее в милицию. Когда она пришла домой, я говорю: «Голубева, как тебе не стыдно, ты ходишь гуляешь с Наседкиным, и все говорят, что он тебе дал десять рублей, а ты мое платье носишь и колечко. Я на тебя за твою подлость заявила в милицию. Снимай мое платье!» Она села на стул и говорит, что теперь все равно, и платье она не снимет. Я очень удивлялась ее наглости, и даже хотела поправить ей за то прическу, но сдержалась. По моему мнению, поведения она была плохого, и даже, можно сказать, проститутка. Ее все за это презирали, но я защищала, пока не обнаружилась ее подлость. Такое отношение к ней очень ее угнетало, и она не раз собиралась покончить с собой. Однажды она пошла в лес давиться, но ей помешали. Последний раз я видела Голубеву в день авиации, я прошла около нее, но ей ничего не сказала. Она была в моем черном платье и очень нахально мне улыбнулась. Я хотела тотчас заявить милиции, но милиционера поблизости не было, и Голубева прошла к Оке одна. Около кустов она остановилась и опять нахально помахала мне рукой, а я, не помня себя от злости, от такой ее подлости, побежала домой. С того дня я ее не видела, и больше по делу показать ничего не могу.
А. Ф. Голубева
Допрошенная мною в качестве свидетельницы 20 июня 1925 года Голубева, Анна Феоктистовна, 41-го года, уборщица, неграмотная, беспартийная, показала:
— Конечно, я, как беспартейная вдова, много показать не могу. Муж мой был трудящий элемент по крестьянскому хозяйству, а в немецкую войну действительно торговал на базаре колесами и дегтем с возу, но только это была не торговля, а одно горькое горе. Вскорости он умер от тифа, а я осталась с четырьмя детьми на руках, мал мала меньше. Сашенька была старшая, и я отдала ее хоть и переростком в школу-семилетку, которую она проходила трудно, но обещалась кончить очень отлично. Но только кончить она сама не пожелала, говорила: «Мама, если я ее кончу, я должна буду идти служить, а на фабрику меня тогда не возьмут, а с фабрики дорога шире». Так — уж не знаю точно — не доучилась она, может, всего несколько месяцев и поступила на фабрику и в фабзавуч. Конечно, мы все теперь, которые старые люди, — с прежними понятиями, и я не одобряла, когда она смеялась над иконами и говорила, что Никола Милостивый — малеваная доска и больше ничего. Я про то завсегда была очень несогласная с ней и раз даже обмолвилась, что если, мол, у тебя такие самостоятельные взгляды на существо жизни — ты, мол, и живи одна, а мне еще трех подымать нужно, и ты мне невинных младенчиков не порти. Вскорости она пришла и деликатно говорит, что будет теперь жить в общежитии с Дуней Маршевой, и к фабрике, говорит, мне будет ближе, а то мне приходится работать рано утром и ночью. Я ее, конечно, отпустила, но только никогда с нею не ссорилась — все-таки своя кровь и жалко. Из общежития она часто приходила домой, сядет иной раз в углу и молчит, и тут я начала примечать, что девка не в себе. Конечно, материнское сердце — оно чует. Взяла я про то в толк, а раз ее и вспрашиваю очень хладнокровно: «Чтой ты, Сашенька, словно ни в себе? Нету ли, говорю, греха какого на твоей душе?» Но она только рассмеялась на мои слова беспричинно. «Теперь, — говорит, — мамаша, никакого греха нету, был да вышел! Гулять, — говорит, — не нагуляла, только начудесила…» И все, бывало, с братьями и с сестренкой возится, оденет их, гулять поведет. А придет с прогулки, заплачет и скажет: «Нет, — говорит, — все-таки я отрезаный от вас ломоть». Однако ничего такого я за ней не примечала. Думала — ну, девка трудная, ну, да ничего, дойдет как-нибудь, по нынешнему времю. Ан, вот и не дошла. «Причащаться, — говорит, — не пойду — заразу подцепишь». А она, зараза-то, с другою боку вышла. Сбилась девка с панталыку: и от старого трудно отстать, и к новому-то одним глазом пристала. Про то и вышло несчастье. Еще больше показать не могу, но только жалко мне Сашеньку очень, и как вспомню я про ее горькую судьбу, так беспричинно плачу.