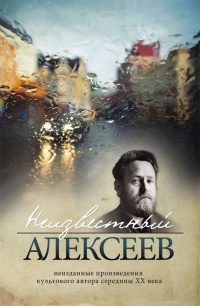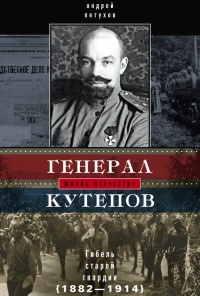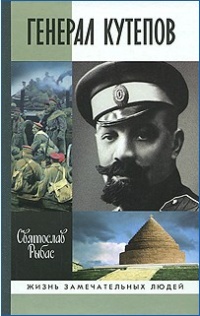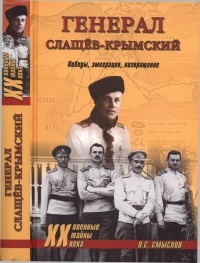Книга Генерал Алексеев - Василий Цветков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сначала генерал Алексеев не хотел брать на себя передачу Его Величеству этого тяжелого поручения, но потом решил, что Государю легче будет выслушать это от него, а не от комиссаров, и потому пошел доложить Его Величеству, что он должен считать себя арестованным. По словам Алексеева, Государь принял эту весть вполне спокойно…»
Еще более эмоционально описана сцена прощания Государя с чинами Ставки полковником Сергеевским. Когда Николай II закончил обход строя своих сотрудников и повернулся к выходу, генерал Алексеев «заступил ему дорогу и твердым голосом сказал ему несколько слов благодарности, но подчеркнуто — только Верховному Главнокомандующему, покидающему свой, глубоко его почитавший штаб. А затем, очень громко и отчетливо произнес: “Счастливого Вам пути Ваше Императорское Величество”, “Счастливой Вам жизни, Ваше Императорское Величество”. И сделал шаг в сторону. Но Государь обнял Алексеева, крепко прижал к себе и трижды облобызал. Этот последний, по смыслу еще царственный жест я видел в одном шаге от себя, и мне с необычайной яркостью запомнилось, что каждый из этих царских поцелуев длился но несколько секунд». Так демонстративно начальник штаба и генерал-адъютант прощался не с «гражданином Романовым», а по-прежнему, с Царствующим Императором и Верховным Главнокомандующим. Хотя бы и прошло это в сугубо символическом смысле…
Призыв Государя к выполнению, прежде всего, своего долга перед Отечеством (а не перед Царской семьей), к повиновению Временному правительству (и в «прощальном приказе» по армии, и устно, во время прощания с сотрудниками Ставки), очевидно, останавливал многих военных, готовых все-таки, несмотря на возможные жертвы и опасность «междоусобной войны», к «подавлению революции». По оценке генерала Головина, «армия защитила бы монарха», однако «сдерживающим началом для всех явились два обстоятельства: первое — видимая легальность обоих актов отречения, причем второй из них, призывая подчиниться Временному Правительству, “облеченному всей полнотой власти”, выбивал из рук монархистов всякое оружие, и второе — боязнь междоусобной войной открыть фронт. Армия тогда была послушна своим вождям. А они — генерал Алексеев, все Главнокомандующие — признали новую власть».
Нельзя не согласиться с этим утверждением. Нельзя забывать о том, что слова Государя: «измена», «трусость» и «обман», а также весьма резкая («такая гадость») оценка им акта Михаила Александровича, — стали известны спустя годы, когда были опубликованы дневники Николая II. Все официально известные, опубликованные на тот момент документы свидетельствовали об осознанном решении Императора, а интимные записи личного дневника, очевидно, не могли (и не могут) считаться свидетельствами, имеющими юридическую силу и правовые последствия. Хотя и в них Государь свидетельствовал о сознательном выборе совершенного им акта.
В то же время Головин обращал внимание и на существенное ослабление монархических настроений в армейской среде: «Несмотря на всю разноречивость внешних проявлений солдатских настроений, одно может считаться несомненным: доверие к бывшему царскому правительству было окончательно подорвано и внутреннее единство традиционной формулы — “за Веру, Царя и Отечество” — было разрушено. Царь противопоставлялся Отечеству.. Дезорганизация, наблюдаемая в тылу, недостаток в снабжении, расстройство транспорта, озлобленная критика правительства во всех слоях интеллигенции, с другой стороны — отталкивание общественных сил самим правительством, министерская чехарда и самое ничтожество выдвигаемых на эти посты лиц — все это широко проникало в гущу солдатской массы и атрофировало в ней всякое чувство доверия и уважения к правительственной власти. Мистический ореол Царской Власти был разрушен»
Завершая тему участия Алексеева в «заговоре» и в связи с широким распространением в России книги эмигрантского автора B.C. Кобылина («Император Николай II и заговор генералов»), стоит, очевидно, отметить и степень объективности и «историографической ценности» этой книги. Достаточно красноречивы в этом отношении следующие слова автора: «У меня нет доказательств (их не может быть), но я уверен, что если бы вместо Алексеева на этом посту был бы генерал П.Н. Врангель, он поступил бы иначе. Ген. Алексеев в моей работе — тип собирательный. Это все те, которые не исполнили своего долга. Это и Рузский, это и Лукомский, и Данилов, это и “коленопреклоненный” Николай Николаевич, и Брусилов, и Эверт, и Сахаров, и Непенин, и Кирилл Владимирович, и Голицын, и Протопопов, и Хабалов, и многие другие. У меня лично нет никакой вражды к Алексееву. Но искажать то, что имело место, мы не имеем права. Ведь если бы Алексеев исполнил бы свой долг и верными войсками занял бы Петроград, разогнав преступную свору заговорщиков и их приспешников, какой неувядаемой славой покрыл бы он себя! А Россия была бы, не взирая на все старания злобного и враждебного Запада, сильнейшим Государством в мире. А мы все имели бы то бесконечное счастье, которого лишены навсегда, — жить на своей чудесной Родине, молиться в наших церквах и монастырях, работать на благо дорогой, родной России. “Боже, Царя храни!” Не сохранили, не уберегли, а предали и погубили свой Отчий Дом».
Оставим в стороне эмоционально оправданные рассуждения автора о «погубленном Отчем Доме» и о «стараниях злобного и враждебного Запада». О том, насколько были возможны надежды на «силовой вариант» в конкретных условиях Февраля 1917 г., уже говорилось выше. А гипотетические предположения, исходящие из сугубо субъективных представлений о роли того или иного генерала в февральских событиях, украшенные творческими описаниями «собирательного типа» — генерала Алексеева, вряд ли могут расцениваться как исторические. Важно другое — суждения о «революционном характере» русского высшего командного состава в годы Первой мировой войны — неправомерны, ошибочны{66}.
Как оценивал произошедшее сам Алексеев? Снова обратимся к рукописи Михаила Бореля, в которой приводятся примечательные сведения о беседах в кругу семьи, которые отправленный в отставку генерал вел в Смоленске летом 1917-го:
«Мне часто вспоминается всегда один и тот же ответ моей бабушки (вдовы генерала Алексеева), собиравшимся у нас дома знакомым, которые не раз задавали один и тот же вопрос: “Как могла Ставка Верховного допустить отречение Государя, когда хорошо известно, что почти все чины Ставки были против этого отречения?”
— Мы у нас дома, в Смоленске, по возвращении моего мужа из Могилева в конце мая 1917 года тоже задавали ему этот логичный вопрос. Мой муж много говорил с нами на эту тему, всего не передать, а многие подробности невозможно было запомнить. К сожалению, ни он, ни я тогда ничего не записали, а через год моего мужа похоронили, после ряда тоже очень волнующих событий и переживаний (выступление Корнилова, октябрьская революция, Первый Кубанский поход и трагичное убийство Царской Семьи). Михаил Васильевич говорил, что Государь мог в любой момент распустить Думу, назначить диктатора тыла, но этого не сделал, а передал власть Своему неподготовленному брату, который своим молниеносным отречением подчинил всех нас, то есть и Ставку Верховного, и всю армию Временному правительству (или Думе), и мое выступление означало бы начало Гражданской войны, которая бы немедленно привела бы к полному расстройству фронта и позорному проигрышу войны. Кроме того, многие не могут и не хотят понять, что такая неожиданность решения Государя отречься, под необъяснимым натиском Родзянки и генерала Рузского — ведь все произошло в течение каких-то 24 часов — не дало возможности никому опомниться. Если бы хоть кто-нибудь мог услышать, как это ужасное известие было принято в Ставке…