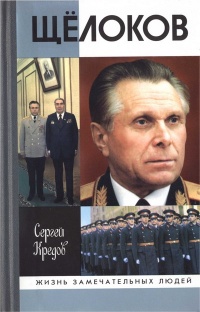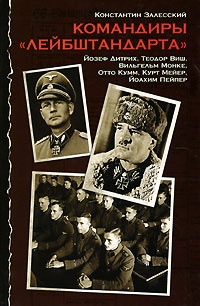Книга Виденное наяву - Семен Лунгин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Да-а-а… – протянул Иван Сергеевич. – Это, помилуй Бог, наказанье. Это, я вам доложу, дыба! Мне говорил один соратник, нимало не смущаясь: у меня, мол, на все годы до семидесяти расписана жизнь – когда кончать одну вещь и садиться за другую. Роман, потом еще роман… Лев Толстой, едрит его в корень!.. Потом повесть на пять листов. Не листов на пять, а на пять листов, потом… И т. д., и т. д… Так и живет, голубчик… А я – нет. Да разве я знаю нынче, что сяду сочинять завтра? Погляжу утром в окошко на облака, в лес схожу, потом на речку, свежим воздухом подышу, потом Майю Михайловну навещу, когда она откроется, потом гостей стану ждать, вот как вас, например, потом послушаю, как ангелы поют, как их крыла шелестят…
– Нет, оба мы, слава Богу, не профессионалы! Мы любители… Любители мы!.. Пишем, что любим, и любим, что пишем. Вот такой у нас круговорот, Иван Сергеевич, а?
– Да, Виктор Платонович, такой. Истинно вы сказали, такой.
– Давайте за непрофессионалов, за любителей чарочку опрокинем!
– И то дело, – сказал Иван Сергеевич и протянул стопку для чоканья.
Теперь его уже давно нет. Нет и Зинаиды Николаевны, она на Байковом кладбище в Киеве. Нет Вики Некрасова, он лежит в Париже на Сент-Женевьев-де-Буа. Как много их, самых дорогих сердцу, уж нет… Нет друга моего Ильи Нусинова, он умер на корабле в Норвежском море. Нет Давида Самойлова, он в Пярну… Нет их, кого мы так любим, чьей дружбой гордились и с веселой беспечностью рассчитывали рядом жить века… Да не вышло, и жизнь наша стала двухмерной. Вот так…
Говоря о том о сем за чуть ли не – страшно сказать – полстолетия нашей дружбы, мы с Давидом Самойловым как-то договорились до Смерти.
– Нет, Смерть совсем другое дело… Во-первых, ее никто никогда не видел.
– То есть как?
– Да вот так… Не мертвецов, конечно, а Смерть.
– А когда кто-нибудь отдает концы?
– Это – умирание… А в конце концов – покойник.
– А на войне?
– И на войне то же самое. Там либо грудь в крестах, либо голова в кустах…
– У Марка Аврелия где-то сказано: пока ты живой, ты еще ее не видишь. А когда она явится, ты ее уже не видишь, потому что ты мертв… Я не о воображении говорю, а о некой безусловности.
– Ведь ее можно представить себе, ну, как образ воздуха, что ли, или там глубины. Например, когда она начинается и где ее пределы…
– А придумать и изобразить графически или там живописно? Во всех подробностях?
– Но ведь это будет не она, а лишь ее знак. Иероглиф, так сказать, которым можно условиться ее изображать, точнее, обозначать.
– Вот те, что вернулись оттуда, после клинической смерти, потрясенные пережитым, ни о чем, кроме бесконечного коридора, не говорят, или о вспышке слепящего света за каким-то там поворотом…
– И у всех, в общем-то, один и тот же образ – коридор, поворот…
– А вот кому-то когда-то пришла в голову гениальная идея – прозреть ее в ожившем костяке и с косой в руках. Эти вещи знакомы всем почти с сотворения мира. Образ косаря. Ощеренный скелет. Улыбка от виска до виска. Ломучесть движений. Поблескивающий в лунном луче череп… поднятая коса – нужно же выкашивать погрязшее в суете и греховности, зажравшееся человечество.
– И пластика танцевальная. Данс макабр.
– В духе Альбрехта Дюрера…
Примерно такой разговор. Запомнились образы воздуха или глубины. Улыбка освещенного лунным светом черепа, от виска до виска, изломанность движений. Весь набор ярмарочных ужасов: скрежет челюстей, лязганье зубов, цеплянье костяшками пальцев за одежду, устрашающий звук точки косы, жуткий скрип онемевших суставов. Леденящий душу хохот. Назначение срока явки на тот свет, срока уже необратимого.
Усопшего часто находят со вздернутыми, скрюченными руками, словно перед концом он отпугивал каких-то адских птиц, с раззявленным ртом, в немом, застылом крике, с несомкнутыми веками над потухшими зрачками, с извернутым костоломной судорогой телом…
Потом родственники приводят в порядок весь этот кромешный результат ее прихода: складывают руки на груди, связывают кисти, поднимают скинутую на пол подушку, смывают со лба холодную липкость страха, подвязывают косынкой челюсть, чтобы не отвисала, кладут на веки по медной монете, чтобы утяжелить их, приглаживают вставшие дыбом волосы и вс¸… Вс¸!..
А покинувшая тело душа витает где-то поблизости, дожидаясь прошествия сперва девяти дней, а потом и сорока, и подводит итоги всему, что оставляет тут в сутолоке своей живой жизни…
Почему же, вспоминая Самойлова, Дезика, как звали его друзья, – такого жизнелюбивого и жизнеутверждающего, я прежде всего вспомнил наш разговор о смерти?.. Ведь Самойлов был такой на редкость гармоничный человек. Зная кое-кого из талантливых и, к счастью, реализовавшихся людей в разных сферах искусства, я никого не могу поставить рядом с ним по радостной открытости миру и готовности принять его таким, каков он есть. Всю нашу жизнь у нас на книжной полке стоит фотография, которую моя жена Лиля чудом сохранила со школьных лет. На снимке их компания восьмого класса. Несколько мальчиков и несколько девочек. Чудные лица тех времен! Среди них Дезик Кауфман. Густокурчавый плотный крепыш со сверкающими, смеющимися глазами, полными ума и серьезности. Да к тому же он поэт! Не мальчик, пишущий стихи, а поэт истинный, огромного таланта, со своим голосом, что было ясно всем с давней поры, с первых стихов. Лично мне – когда я случайно услышал – а это было сильно до войны – «Плотники о плахи притупили топоры»…
Познакомились мы с Самойловым в сороковых годах и продружили до самой его кончины. Странно, но в той жуткой жизни мы жили весело, часто встречались, шутили, выпивали, влюблялись в жен друг друга и посторонних девиц, устраивали смешные розыгрыши… Как говорится, игровая стихия была нам в высшей степени присуща. И Дезику чуть ли не больше всех.
Зная за многие годы нашей дружбы его семью, я хорошо чувствовал еврейское начало его личности при всем ее, повторяю, чарующе-гармоническом, так сказать, пушкинском складе.
Иногда трудно было понять, говорит ли он всерьез или валяет дурака, ведет ли он себя по своему естеству или устраивает какой-то балаган, театрик для себя, посмеиваясь над нами и получая от этого большое удовольствие. Взаправду ли ему по вкусу его драповое пальто с буклевой рябью, затянутое в резкую талию, «как у учителя танцев», и берет, сдвинутый набок, или фетровая шляпа с чуть загнутыми полями, или какая-то многоклинная кепка с огромной пуговицей посередке – «мой гороскоп ношу с собой», яркие галстуки или ядовитого цвета свитеры? Он ухмылялся в усы и, чуть пришепетывая, восклицал: «Меня одевают как куколку!»
Все это оценивалось и вызывало улыбку лишь до того мгновения, пока он не начинал говорить или, еще лучше, читать стихи. Тогда он был прекрасен, это была его форма существования.