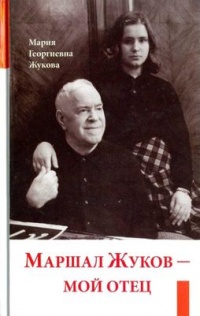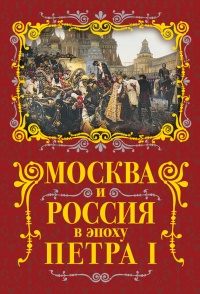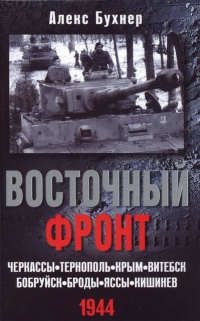Книга Мария Кантемир. Проклятие визиря - Зинаида Чиркова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Толстой отрицательно покачал головой.
— Мужчины только, — ответил он.
— Я бы лишь одним глазком посмотрела, — умоляюще произнесла Мария и поняла, что зря старалась.
— Люблю я тебя, крестница, — опять покачал головой Толстой, — да только дело-то уж весьма серьёзное...
И Кантемир поехал назавтра один в кремлёвский дворец. Едва он вернулся, Мария кинулась к нему с расспросами. Но больше всего интересовало её не то, что происходило, а как выглядит Пётр, каково его настроение и была ли на этом сборище Екатерина.
Екатерины не было — она ещё не совсем оправилась от родов: принесла наконец своему стареющему мужу маленького Петра.
— Зала огромная, народу битком, — рассказывал отец дочери, — царевича ввели так, будто охрана его не отходила от него ни на шаг. Он был бледен, в парадном кафтане и драгоценном камзоле, но без шпаги и без всяких знаков различия.
Пётр сидел на высоком стуле в окружении сановников, всех первых лиц государства, и угрюмо молчал.
Едва Алексей вошёл, как бросился перед отцом на колени.
— Что учинил ты, сын мой, перед всей Европой, перед всем отечеством? — горестно обратился к нему отец. — Понимаешь ли ты, что обесславил меня, всю Россию, честь свою отдал цесарскому императору?
Первые же слова Петра ещё больше обескровили длинное лицо Алексея.
— Прости, государь, — припал он лбом к ногам Петра, — виноват я перед тобой, перед всем народом, виноват, и нет мне прощения. Только и уповаю на милость твою, недостойный тебя, государь, сын, опозоривший седины отца...
Он долго ещё повторял слова покаяния и испрашивал прощения за все свои вины, молил о помиловании.
— Помилуй меня, государь, — бормотал он в слезах.
Пётр молча слушал покаянные речи царевича, внимал его быстрым и как будто от души сказанным речам.
Потом вымолвил тяжело и горестно:
— Помилую тебя лишь тогда, когда откроешь мне имена всех, кто присоветовал тебе бежать от отцовского догляда, да откажешься от отцовского наследия — негоже, чтобы такой непотребный сын взошёл на российский престол, коли хватило ума просить протекции в чужой стране, у чужих людей...
— На всё согласен, батюшка, — вновь забормотал Алексей, трусливо прикрывая голову руками, словно бы теперь, вот сейчас, должен сверкнуть топор палача. — И не надобно мне отцова наследия, отрекусь хоть сей миг, — плача, приговаривал он.
— Что ж, перед святыми иконами повторишь своё отречение, чтобы и святая церковь знала, что не я лишаю тебя наследия, а ты сам избрал это...
Царевич легко закивал головой, соглашаясь, и Пётр знаком велел ему подняться с колен.
— А теперь выйдем в другую залу, — сурово и громко сказал он, — там и откроешь мне имена своих советчиков...
Они скрылись в боковой двери, и всё собрание единодушно вздохнуло: кого-то оговорит царевич, страшились одни, кому-то выпадет царская пытка, а кто-то получит заслуженную награду.
Разные мысли бродили у всех, но никто не решался даже рта открыть, пока снова не появились в зале Пётр и Алексей.
— Теперь пойдём в Успенский собор — там тебя объявляли наследником, там ты и отречёшься, — всё так же сурово и безрадостно сказал Пётр.
Все услышали эти слова — слишком глубокой была тишина в зале...
Отец рассказывал, и Мария ярко представляла себе эту картину горестного отречения в Успенском соборе.
Не давая света, синели перед тёмными ликами святых лампады, колебались неяркие огоньки свечей, и вся тесная внутренность Успенского собора заполнена была золотыми кафтанами и камзолами с золотым шитьём, трёхцветными шарфами через плечо и горящей огранкой орденов.
На амвоне стоял на коленях царевич Алексей, бледный, с большими каплями пота на высоком лбу, и тихим голосом читал своё отречение, заранее написанное им.
— Сим отрекаюсь от наследия своего отцовского, — глухо звучал его голос, не отражаясь от стен, увешанных иконами, словно бился в тесном безвоздушном пространстве.
Пётр сидел в старинном кресле, ещё со времён Ивана Грозного устроенном сбоку амвона, и вместе со всеми, склонив к плечу мелко подрагивавшую голову, слушал голос нелюбимого сына.
Много лет стращал он Алексея этим отречением, много лет и царевич шёл к этой сцене и теперь, словно разрешаясь от тяжкой доли, плакал безмолвно, читая слова отречения.
Крестился истово, припадал к земле лысоватой головой с высоким лбом и жидкими косицами серых волос по сторонам бледного, будто мёртвого лица, поднимал голову и не глядел ни на кого, целуя золотой крест в руках митрополита.
О чём думал при этом Пётр, каковы были его чувства — одно волновало Марию, о нём беспокоилась она в тот момент, когда отец обрисовывал ей сумрачную сцену отречения. Наверное, разрывалось сердце от боли, что не сумел приохотить наследника к своей доле, к тяжкой доле работника на престоле, не сумел внушить с детства уважение к сану своему, если так легко предал, уехал, бросил на скандальные весы европейской молвы и свою честь, и честь отца, и честь родины...
А может, был равнодушен к теперь уже ненужному отпрыску, отрезал, как засохшую ветвь от плодоносящего древа? «Каким был Пётр?» — всё допытывалась она у отца и, не получая ответа — слишком сумрачно было в соборе, чтобы разглядеть выражение лица царя, — придумывала себе его быстрые взгляды и неизбывную горечь в больших глазах.
— Теперь будем собираться в столицу, — окончив свой рассказ, сказал Кантемир дочери, — тяжкая доля и мне выпала — судить да рядить царевича. А уж так царь не оставит его, начнёт дознаваться, и пойдёт раскручиваться нитка с клубка.
Как хотелось Марии увидеть Петра, заглянуть в его глаза, выразить ему свою печаль, сожаление, искреннее сочувствие, но понимала она, что даже минутки такой не сможет найти Пётр, чтобы успокоить её желание.
И неожиданно, приехал царь в дом Кантемира. Апраксин, Толстой, другие приближённые сопровождали его, как всегда.
Сердце у Марии замерло: нет, только не это, как может он, ещё не оправившись от такого горя, вспомнить о ней?
Но Пётр как будто и не заметил о сожаления на лице Марии.
Улучив момент, когда все его приближённые усаживались за стол, вышел с ней в узенький коридорчик и, не в силах сдержать желания, крепко обнял и расцеловал.
— Тосковал я по тебе, — коротко сказал он, — крушится всё, а под обломками ты — ласковая, свежая моя...
Он схватил её огромными ручищами, поднял, как пушинку, прижал к сердцу и большими шагами пошёл с ней на женскую половину. Она не билась в его руках, лишь прижалась щекой к его груди, внушительных размеров медная пуговица словно врезалась в щёку, и она откинулась, и жадно смотрела, смотрела на его постаревшее, морщинившееся лицо, и страстно жалела, страстно страдала вместе с ним.