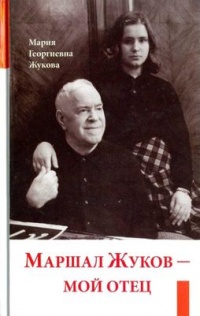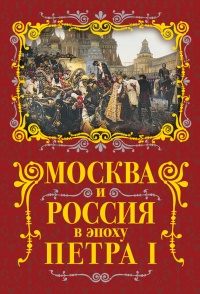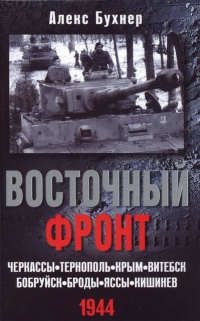Книга Мария Кантемир. Проклятие визиря - Зинаида Чиркова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Сколько можем, государь, видеть из слов его, многими разговорами он только время продолжает, а ехать в отечество не хочет, и не думаем, чтобы без крайнего принуждения на то согласился...»
И Пётр Андреевич решился на крайнее принуждение. Сначала надо было дать понять царевичу, что протекция его ненадёжна, что Карл не пойдёт ни на какие крайние меры против русского царя.
Подкупил всех, с кем только общался Алексей, и прежде всего секретаря графа Дауна, который виделся с Алексеем едва ли не каждый день.
Словно бы мимоходом, вскользь, сказал он как-то царевичу, что слишком обременён заботами австрийский император, потому как война с турками, да и Война за испанское наследство всё ещё продолжаются, а вступать в третий фронт — борьбу с Россией из-за царевича — он крайне не желает.
А тут ещё и Даун высказал Алексею намерение отобрать у него девку Ефросинью, якобы из-за аморальности этой связи.
Конечно же, не поскупился Толстой на «дачу» Дауну. И тот тоже мимоходом объявил Алексею о позиции императора.
И уж самым сильным средством избрал Пётр Андреевич свою выдумку: будто не сегодня-завтра появится в Неаполе отец, да не один, а с войсками, чтобы силой отобрать сына у кесаря.
Алексей пришёл в такое замешательство, что сам просил Толстого приехать к нему, показать письмо царя с намерением обложить Неаполь — он готов был поверить в эту выдумку. Словно зверь, обложенный со всех сторон, не знал Алексей, в какую сторону кинуться.
Толстой не приехал по записке Алексея, и удручённый царевич впал в такое смятение и волнение, что едва через несколько дней появился Пётр Андреевич у царевича, как тот объявил ему долгожданные слова.
Даже австрийскому императору написал Алексей, что «резолюцию взял ехать в Вену и за превеликую милость Вашего Величества, когда сподоблюся видеть, персонально благодарить и о некоторых нуждах своих просить и по оном, с воли Вашего Величества, возвратиться по своя к отцу своему, государю...»
Составил он и письмо к отцу:
«Письмо твоё, государь, милостивейшее чрез господ Толстого и Румянцева получил, из которого, также изустного, мне от них милостивое от тебя, государь, всякие милости мне, недостойному в сём моём своевольном отъезде, будет, буде я возвращуся, прощение. И, наделся на милостивое обещание Ваше, полагаю себя в волю Вашу и с присланными от тебя, государя, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в Санкт-Петербург. Всенижайший и непотребный раб и недостойный назваться сыном Алексей».
Крохотная надежда ещё осталась у Алексея: при личном свидании надеялся он добиться от Карла твёрдого намерения защитить его интересы и оставить в Вене.
Но сумел Пётр Андреевич устроить так, что это личное свидание не состоялось: поздним вечером приехал царевич в Вену, а ранним утром увезли его уже по направлению к границе — слишком хорошо понимал Толстой, что от этого свидания зависит всё: откажется Алексей ехать дальше — и пиши пропало.
Всех, кого надо, подкупил, с кем надо переговорил, но своего добился: аудиенция не состоялась...
В великой тайне перевёз Толстой своего пленника, иначе и невозможно выразиться, через все страны до российской границы и только тогда, когда доставил его в Москву, вздохнул свободно.
Все методы и способы использовал он, чтобы выполнить царский наказ: и подкупил любовницу Алексея Ефросинью, и обещал, что царь исполнит желание царевича жениться на ней и жить в своих деревнях.
Язык его был намазан и мёдом, и ядом — за несколько месяцев пути Толстой похудел и побледнел не от недостатка телесной пищи: очень уж дорого достались ему эти царские хлопоты.
Но едва он сдал с рук на руки царевича, как явился в дом Кантемиров и всё рассказал и отцу, и дочери.
Они стали первыми слушателями его длинной, почти полуторагодичной эпопеи по доставке царского сына из страны, отстоящей так далеко от России.
— Боже мой, — шептала Мария, — как же должен был страдать государь от предательства собственного сына! Как же сердце его не разорвалось?
Она дрожала от жалости, любви и тоски по Петру: любовь уже укоренилась в ней так глубоко, что она не могла никак избавиться от этого чувства.
И уговаривала себя, что царь совсем равнодушен к ней, что он оставил её на два года без всякой вести о себе, что, в конце концов, у него есть любимая женщина — его Катеринушка.
И всё равно не могла она вырвать из сердца эту любовь. Словно бы болезнь окутала её: все её мысли, разговоры, все её мечты сводились к одному — только бы увидеть его, вглядеться в его огромные навыкате глаза, потрогать его щетинившиеся усики над верхней губой, прижаться к круглым крепким щекам.
— Рассказывайте, рассказывайте, Пётр Андреевич, — со вздохом просила она Толстого, — всё говорите, как на духу, знаете же, что ни одно слово за эти стены не выходит.
И Пётр Андреевич рассказывал.
Княгини Анастасии не было, как всегда, дома: забрав дочку, она поехала к родным, чтобы попить чайку, посплетничать, узнать все московские новости.
Мальчишки занимались в классной комнате, и Толстой, и Кантемир вместе с Марией сидели в кабинете князя и внимательно слушали Петра Андреевича — ещё с давних времён, когда жили они в Турции, в Стамбуле, он знал их как истинных друзей и не стеснялся в выборе выражений.
— Да, привёз, — печально продолжал он, — теперь царевич у себя во дворце и ожидает решения своей участи. Ефросинью пришлось отправить дальним и более удобным путём — она уж на четвёртом месяце, и царевич сильно по ней тоскует...
«Странно, — горько думалось Марии, — почему Романовых, царского рода мужчин, так и тянет к простым девкам, необразованным и дебелым? Что отец, то и сын, видна кровь, и повадки одни и те же. Марта Скавронская даже имя своё подписать не умеет, не говоря уж о том, чтобы хоть одну книжку в своей жизни прочитать. Правда, говорят, что Ефросинья — финка, достаточно красива, да ещё и умна. Писать, во всяком случае, умеет, что по-русски, что по-чухонски. И есть, значит, в этих женщинах что-то привязывающее мужчин. Только у меня одной нет такого...»
Но она вспоминала множество сплетен о её замужестве, о бесчисленных женихах, то и дело заводящих разговоры о женитьбе на княжеской дочери, и знала, что одно лишь её сердце не склонно к какому бы то ни было другому мужчине.
Только о Петре думалось ей, только из-за Петра обливалось её сердце кровью, только ему одному могла бы отдать она и свою молодость, и свои силы, и свои знания.
Но нужно ли ему это, не навязывается ли она со своей любовью?
И горько, и стыдно становилось ей: возмечтала о мужчине старше её двадцатью годами, знатнее её во много раз...
— Завтрашним днём в Кремле велел государь собраться всем знатным людям, — закончил Толстой. — Тебе, князь, тоже велено быть...
Мария взволновалась:
— Можно ли мне? — робко спросила она.