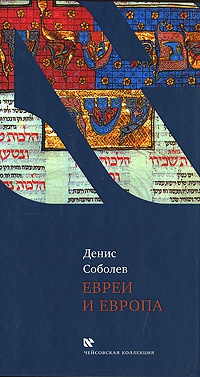Книга Брачные узы - Давид Фогель
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Фу-у, стыд и позор! Чтобы такой большой парень рыдал, как плаксивая баба! Подожди, скоро придет мама и накормит тебя ужином, вот увидишь!
На мгновение ребенок затих, но тут же снова зашелся в крике. Гордвайль вынул его из коляски и стал укачивать на руках, ходя по комнате вдоль и поперек, точно так же, как делала Tea, когда ребенок не хотел успокаиваться. Мартин не унимался.
— Я и не думал, — сказал ему Гордвайль, — что ты такой дурачок! Ты мне этого до сих пор не показывал. Ведь тебе прекрасно известно, что у папы сейчас нет времени. Ни секундочки нет. Нужно, например, выстирать для вас, милостивый государь, смокинг для завтрашнего приема. Ведь не может такой современный студент, как вы, появиться на приеме в грязном смокинге! Неприлично-с! Что будут говорить прекрасные барышни, а? Все одержанные вами победы обратятся в прах! Легкая небрежность в одежде, случалось, обращала в развалины целые миры — вам же это известно! А кроме того, у папы и так по горло работы — исключительно для вашего удовольствия! Не-ет, ты, я вижу, тот еще упрямец — дурная черта! Я-таки полагал, что ты умнее. Если ты сейчас же не прекратишь рев, то знай: между нами все кончено! Ты возвращаешься в коляску и больше не услышишь от меня ни слова! Упрямцев я не люблю!
Гордвайль не слышал, как Tea открыла дверь и вошла в комнату.
— Что он так орет! Почему ты не заставишь его умолкнуть?!
— Орет, верно, проголодался. Иди уже, покорми его.
— Что-о?! Ты просто не умеешь с ним обращаться! Подождет немного, не помрет с голоду! Да утихомирь ты его наконец! Я больше не могу выносить эти вопли!
— Ты же видишь, что ничего не помогает. Нужно покормить его, и он успокоится.
Tea посмотрела на него уничтожающе и стала не спеша снимать пальто и шляпку. Затем достала из сумочки сигареты и прикурила. Медленно села на диван и с торчащей изо рта сигаретой начала вынимать грудь.
— Давай его сюда! — приказала она.
Только дотронувшись губами до соска, ребенок сразу умолк.
— Вот видишь, просто голодный был, бедняга!
И после небольшой паузы:
— Я… думаю, что будет правильнее, если ты не будешь сейчас курить, во время кормления. Дым ест ребенку глаза.
— Что?! Тебе-то что за дело?!
— Ты же можешь покурить и потом, в полное свое удовольствие, — настаивал Гордвайль. — Это же недолго!
Он подошел ближе и сказал просительно:
— Дай сигарету, дорогая, потерпи несколько минут, будь хорошей девочкой.
Свободной рукой она грубо оттолкнула его от себя.
— Не твое дело! Я вправе делать все, что мне только заблагорассудится!
— Но ведь это вредно для ребенка! Зачем вредить ему все время?
— Что это тебя так волнует? — злобно швырнула она ему в лицо. — Я ведь уже тыщу раз тебе говорила, что это мой ребенок, мой и… Как бы то ни было, к тебе он не имеет никакого отношения…
— Какая разница! — прервал ее муж. — Все равно! Ребенок есть ребенок! Да будь он и совсем чужой, и тогда у тебя не было бы никакого права травить ему глаза дымом! К чему эта жестокость?
— Хватит! Не хочу слышать больше ни единого слова! Беги-ка живо вниз, купи что-нибудь на ужин! Мне скоро идти!
На миг его охватило страстное желание вырвать у нее из рук ребенка и больше никогда не давать ей — и будь что будет! Он не отдаст своего сына во власть ее прихотей и капризов! Однако он сразу овладел собой. В это мгновение он ненавидел жену, но не мог противостоять ее воле. Покамест, утешил он себя, ребенок еще нуждается в ней, но, как только Мартин будет отлучен от груди, он лишит Тею всякой возможности даже видеть его! Ничего не поможет! Он бросил на жену косой взгляд, полный затаенной угрозы, чего она, впрочем, не заметила, и вышел из комнаты.
Когда он вернулся, Мартин уже лежал в коляске.
— Сначала надо его выкупать, а поедим потом, когда он уснет.
— Нет, сначала поедим! Я же сказала, что мне срочно надо уйти! Выкупаешь его сам или попроси старуху, пусть поможет.
Сразу после еды Tea оделась и ушла, и в глубине души Гордвайль был рад этому обстоятельству. Один он справится со всеми делами гораздо лучше, без лишнего шума и раздражения. Он убрал со стола, притащил из кухни маленький жестяной таз, который водрузил на стул, приготовил чистые пеленки и банное полотенце и снова вышел в кухню, чтобы поставить греться ведро воды. Старуха-домохозяйка с охотой помогала ему, как это бывало не раз и раньше. Спустя считанные минуты младенец уже играл своими пальчиками и плескался в теплой воде, и было видно, что купание доставляет ему огромное наслаждение. Он заливался громким смехом, и счастливый Гордвайль смеялся вместе с ним, не забывая тереть маленькое гладкое тельце губкой цвета яичного желтка.
— Ай-ай-ай! — приговаривала фрау Фишер, придерживавшая ребенка в тазу. — Такой младенчик, господин Гордвайль, благословение для дома! Женщины это понимают лучше мужчин. Да и ребеночек такая прелесть! Сияет как солнышко, тьфу-тьфу, не сглазить! Приятно посмотреть, пс-с-с!
Гордвайль благодарно улыбнулся ей в ответ. «Доброе сердце у старухи, что бы там ни было!»
Старуха же продолжала быстрым шепотком:
— Вылитая мать. Похожи как две капли воды. Даже в темноте видно! А на вас, господин Гордвайль, ничуточки не похож, так и Сидель моя думает. Но по характеру это вы, господин Гордвайль, такой же тихий и прямой, тут он вылитый отец, пс-с! Мне только кажется, да и Сидель тоже так считает, что мать недостаточно им занимается, ай-ай-ай! Она порядочная женщина, фрау Гордвайль, очень порядочная, но у нее так мало времени, у бедной матери!..
Гордвайль завернул ребенка в шершавую простыню, чтобы высушить его, и, положив на кровать, стал воевать с его сжатой в кулачок ручкой, которую малыш все норовил засунуть в рот. Гордвайль пытался спрятать и ее под простыню. Вечерние сумерки сгущались в комнате. Склоненная над ребенком старуха, с ее ссохшимся телом и растопыренными в стороны сморщенными руками, была похожа на какое-то животное, вставшее на задние лапы.
— Вы все правильно делаете, господин Гордвайль, — продолжала бормотать она. — Лучше, чем иная женщина, можно сказать… Ну, умный человек все умеет. Вот и муж мой покойный, мир праху его, тоже так говорил. Если бы не вы, господин Гордвайль, что бы стало с ним, этакий бедный птенец! Когда у матери совсем нет времени! Большое счастье, я говорю, что господин Гордвайль такой умный и с работящими руками! Золотые руки, ай-ай-ай!
Гордвайль тем временем закончил пеленать ребенка и положил его в коляску. Он кивнул старухе, намекая, чтобы она замолчала, и стал качать коляску, напевая под нос какой-то старый мотив, происхождения которого уже не помнил. Фрау Фишер повернулась и вышла.
Спустя полчаса Гордвайль уже стоял, наклонившись над тазом, которым он припер дверь, чтобы случайный ее хлопок не разбудил ребенка. Он был без пиджака и, засучив рукава, полоскал выстиранные им белые пеленки. Керосиновая лампа слабо освещала комнату. Через полуоткрытые окна в комнату струился наступивший вечер, шум большого города доносился сюда приглушенно и тихо; словно просочившись через огромные пространства, он лишился всей своей грубой материальности. Отдаленный этот шум был приятен Гордвайлю; знакомое состояние души, кажется, испытанное им уже не однажды, — чувство удовлетворения, смешанное с желанной, возвышенной грустью, — охватило его, то накатывая, то отступая. Время от времени Гордвайль выпрямлялся, чтобы дать отдых начавшей болеть спине. Ему хотелось запеть, но он подавил в себе это желание, неясно почувствовав, что этого делать нельзя. И тотчас понял, почему о пении сейчас не могло быть и речи, вспомнив о спавшем в коляске Мартине. Но желание словно назло росло в нем, так что ему стало трудно сдерживать себя. «Дурак!» — сказал он громко.