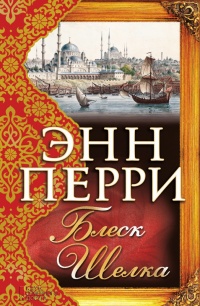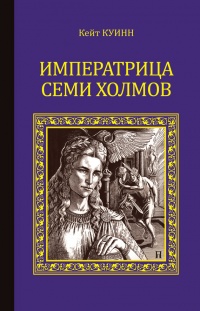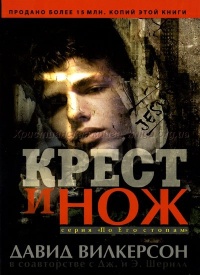Книга Мoя нечестивая жизнь - Кейт Мэннинг
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Дочь сидела рядом со мной, ее пушистые волосы пахли чайной розой, тонкие пальчики играли моими браслетами.
– Чего бы тебе хотелось больше всего на свете? – спросила я.
– Маленького братика. Или… большой рояль!
Что ж, несмотря на наши усилия, маленький братик не спешил заявить о себе, а если мы усыновим, есть риск, что нас обвинят в похищении младенца. Так что мы с Белль отправились в магазин «Стейнвей и Сыновья» на Вэрик-стрит и купили комнатный рояль. Как же чудесно слушать музыкальные пассажи, что выводила наша шестилетняя дочь.
– Сыграть вам «Мюзетт номер пятнадцать» мистера Иоганна Себастьяна Баха? – спрашивала она.
– Когда ты вернешься в клинику? – спросила Грета, заглянув к нам вместе с Вилли.
– Никогда. Мадам удалилась от дел.
Она недоверчиво хмыкнула:
– Ты никогда не удалишься от дел, Экси. Я сказала Чарли, што ты просто отдыхайт. Я тебя снаю, Экси. Тебе ошень скоро надоест.
– Ошибаешься, – ответила я.
Чарли радовался, что я покончила с прошлым, хотя сам он продолжал продавать наши снадобья и прочие предохранительные средства под маркой «Доктор Десомье». Рекламу «Мадам», он по моей просьбе прекратил. Я и вправду удалилась от дел.
Вот только женщины Готэма никуда не удалились. После огласки, которую устроил мне суд, число пациенток, прибывавших на Либерти-стрит, значительно выросло, причем самого высшего разряда. Миссис Лендон Кэмфорт, мисс Хоуп Хэтуэй и все в таком духе. Противна ли была этим женщинам нечестивость мадам, оттолкнуло ли их мое пребывание в тюрьме? Да ничего подобного! Они осаждали Грету, оставляли визитные карточки, умоляли принять их.
Несколько недель я и в самом деле не вспоминала про клинику, наслаждалась свободой и возможностью делать все, что захочется: играть в криббедж с Викенденами, посещать Академию музыки, где мы слушали Марчеллу Зембрих[88] в опере «Лючия ди Ламмермур»[89] – представление, за исключением разве что Безумной Сцены, показалась мне набором шумов продолжительностью в три часа. Ко всему прочему мы частенько обедали у «Дельмонико». Мы с Чарли легко мирились после ссор, стоило заговорить о нашем новом доме, на Пятой авеню как раз копали котлован.
– Конюшни будут рассчитаны на четырех лошадей, – сказал как-то Чарли за завтраком.
– Почему не на шесть?
– Значит, на шесть. И каменные колонны по обе стороны дорожки для экипажей.
– И садик с пони! – закричала Аннабелль. – И маленькую собачку для меня.
– Да, моя любимая, – сказал папочка.
– Смотри не разбалуй ее, – улыбнулась я.
– Почему бы нам самим не разбаловаться и не поставить скульптуры внутри и снаружи?
– И французские гобелены в каждой спальне.
– Как в Версале.
– А медицинский кабинет устроим в подвале.
– Ты опять за старое? – нахмурился Чарли.
– А что, если я передумала?
– Я полагал, тебе хорошо дома в семейном кругу.
– В кругу! – подхватила Аннабелль, заливаясь смехом, и опрокинула чашку.
– Белль! – строго сказала я. – Что за манеры.
– Экси, – тон у мужа был такой, будто он обращается к несмышленому ребенку, – никакого кабинета.
Я смолчала. Взяла его за руку и поцеловала. Конечно, он понял, что я просто хочу отвлечь его, но продолжать разговор не стал. Тем более что я сунула ему в рот шоколадный трюфель.
Да, были и трюфели, и мед, и черная икра, и вино. В первые дни моей свободы. Я твердо вознамерилась вести беззаботную жизнь, миссис Чарлз Г. Джонс навсегда порвала с нечестивой Мадам Х.
Но однажды утром в дверь позвонили, и Мэгги принесла мне карточку миссис Джеймс Алберт Паркхерст. Я знала это имя – миссис Паркхерст возглавляла Женскую Лигу. Жена его высокопреподобия досточтимого Паркхерста и мать трех девочек, которые учились в школе миссис Лайл, как и моя дочь. Я приняла ее в гостиной. Платье у нее было столь роскошное, что я ощутила себя замарашкой, проникшей на великосветский раут.
– Миссис Джонс! – сказала гостья с улыбкой, когда мы остались одни.
– Да, дорогая миссис Паркхерст? – отозвалась я, улыбаясь столь же лучезарно.
Но радость вдруг слетела с ее лица.
– О-о-о… – исторгла она стон.
– Что с вами? – вскрикнула я.
Но я уже знала что. И душа моя ушла в пятки.
– Я бы никогда не подумала, – бормотала она. – Изо всех людей… меня… я председатель Женской Лиги и член Комитета нравственности… Никогда не думала, что придется просить вас о милости.
– Все в порядке, дорогая. Это случается даже с самыми лучшими.
– Я выносила семь детей, но только три девочки родились живыми. И вот я снова жду ребенка. Мне страшно. При последних родах я чуть не умерла, наш бедный малыш не выжил. А досточтимый Паркхерст так мечтает о сыне и очень настойчив в этом отношении. Но все четверо мальчиков родились мертвыми. Это грех, я знаю, что грех. Но миссис Джонс, не могли бы вы мне помочь?
– Нет, не могла бы. Я удалилась от дел.
В ответ – горькие рыдания, прямо олицетворение отчаяния.
– Я больше не могу практиковать как женский врач. Для меня это слишком опасно.
– Я не скажу никому ни слова! Заплачу любые деньги. Назначьте цену. У меня есть собственные средства. Прошу вас, мадам. Я люблю моих девочек и хочу увидеть, как они взрослеют.
– Милая моя миссис Паркхерст, успокойтесь, пожалуйста.
История ее была самая банальная, мне доводилось слышать куда печальнее. Глядя на ее бледное, отливающее желтизной лицо, полное страдания, на ее тонкие запястья, я размышляла. О риске. О тюремщицах, о судье Меррите, об обвинителе Толлмадже, о прочих своих врагах. О своей семье. О милой моей дочке.
– Ладно, – сказала я сухо. – Приходите завтра на Либерти-стрит, 148.
– Благодарю вас, мадам, – пролепетала гостья и снова разрыдалась. Настоящий припадок. – Это так ужасно, такой грех. Но я решилась, мадам.
– Может, греха здесь и нет. Ужасно? Да. Хотя и менее ужасно, чем многое, что предлагает нам жизнь. Не мне судить.
Мы сидели в мрачном молчании, размышляя о грехах. Мне вспомнились слова Чарли. Что он скажет? И я ставлю под угрозу нашу дочь.
– Странно, – сказала миссис Паркхерст, – мне грустно и страшно, и в то же время я чувствую решимость и благодарность. Я знаю, что вы в силах спасти меня. Не могу разрешить это противоречие.