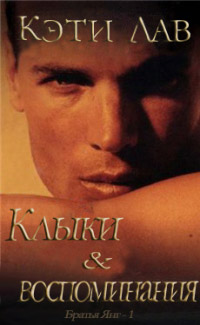Книга Последнее лето - Елена Арсеньева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В кремле собирались члены энского монархического союза«Белое знамя». Среди них были и присяжные, и учителя, и врачи, но были такжеизвозчики, мясники, квасники, приказчики, трактирные половые… Вновь принятым«союзникам» выдавалось оружие. После собраний простонародье часто валило вкабаки – обмыть монархические устои России, которые они готовились защищать от«жидов и социалистов» с помощью этих револьвертов . Частенько пирушки кончалисьтем, что чей-нибудь револьверт бывал продан – денег на выпивку русскомучеловеку, а тем паче – истинно русскому, всегда мало! На такой случай закомпанией «союзников» всегда присматривал кто-нибудь из рабочего боевогоохранения, державший в кармане кругленькую сумму. Конечно, это были надежныетоварищи, которые сами не пропьют партийные деньги.
Мурзик, как ни странно, принадлежал к самым надежным. Такое впечатление,что у него, сына пропойцы и пьянчужки, зачатом в хмельном угаре, организм былотравлен алкоголем еще до того, как Мурзик на свет народился, и он ненавиделпьяный угар. Сам вкус спиртного ненавидел! Именно поэтому ему доверяли, и незря.
Вот и нынче Мурзик нес в кармане новехонький револьверочередного пропившегося «союзника». Заряженный револьвер…
Трижды громыхнуло – трое убитых повалились на песок.
Долго потом искали разбитного, хулиганистого сына старшегомастера формовочного цеха да двух молодых рабочих, шутов гороховых, его верныхподпевал. Только зимой, когда озеро промерзло до дна, обмелев, обнаружилисьтрупы… Ну а тех – или того? – кто прикончил парней, так и не нашли, как нистарались.
Горбунья как завороженная застыла в воде. Парень стоял, торассматривая оружие, то бросая веселые взгляды на девчонку. Потом вскинулревольвер… Он хотел просто помахать: выходи из воды, мол, и ничего не бойся,однако она подумала, что настал ее черед быть убитой, лишилась со страхусознания и упала в воду. И немедленно начала тонуть.
Чертыхаясь на чем свет стоит, Мурзик полез в озеро – ужспасать так спасать, он ни одно дело не любил бросать незаконченным.
К счастью, горбунья не успела наглотаться воды и скоро открылаглаза. Парень в мокрой одежде стоял над ней. Глаза его синие сияли, усики надсмеющимся ртом дрожали – чудилось, самую душу щекотали…
– Ну вот! – сказал он. – Наконец-то! Ты что жтут шарашишься? Нашла где прогулки гулять!
Оказалось, что девчонка приехала в Сормово навестить больнуютетку. Целый день мыла она и скребла ее домишко, а как стало смеркаться,умаявшись, пошла было ополоснуться в озерке, да наткнулась на трех негодяев.Пьяно хохоча над ее горбом, они решили избавить землю от уродины, сделать«доброе» дело.
– Я так просила отпустить меня, думала, Бог не слышитили я грешна, не стою спасения… Подумала: коли избавит Бог, уйду в монастырь. Итут же тебя Христос послал! – изумленно улыбаясь, бормоталагорбунья. – Все, завтра же – в Кресто-Воздвиженскую обитель!
– Ты спятила, девка, – растерянно сказалМурзик. – Как тебя зовут-то?
– Вера, – ответила она.
– Ну, когда так… – потупился он, понимая, что стаким именем для нее иной дороги просто не может быть.
С таким именем – и с таким горбом…
Однако Веру в обитель не взяли, постричь не согласились.Записали в мирские монахини – позволили носить одежду монашескую, но житьпостановили дома. Приказали обиходить часовенку Варвары-мученицы и служить вней – свечки продавать, крестики, собирать деньги на молебны во здравие, напоминанья, каноны читать. Так оно и повелось.
Вера продолжала навещать тетку. Иногда в Сормово приезжала исестра ее Любаша, красота несказанная. Красивых девок Мурзик любил. И они еголюбили, однако с Любашей они отчего-то возненавидели друг дружку с первоговзгляда, и напрасно пыталась Вера примирить их. Не ссорились, не лаялись онитолько ради Веры, которую Любаша любила пуще себя самой, а Мурзик… тот простогорбунью жалел. Верка-то в него влюбилась сразу, с одного взгляда, хоть ипроклинала себя, что любит человека, который ради нее живые, пусть и грешные,жизни загубил. Много чего она потом еще про Мурзика узнала, однако по-прежнемугорела к нему любовью, которую не смогло заглушить в ее душе даже рабскоепоклонение Единственному Жениху и Возлюбленному всех монашествующих дев.
Да, Мурзик жалел Веру, как… как спасенную животину. А онабыла единственным человеком, который его любил воистину ни за что – ведь не зачто его было любить, Мурзик и сам знал, что не за что… не за оснастку ведьжеребячью, коей Верка в глаза не видела и не увидит никогда. Не за что , сталобыть, она его любила, а вопреки , и, наверное, это что-то значило даже длятакой отпетой души, забубенной головушки, какой был Мурзик.
Вера познакомила Мурзика со своим двоюродным дядькой, в домекоторого и жили сестры. Звали его Поликарп Матрехин, и был он одним из самыхкрепких и надежных скупщиков краденого в Энске. Даже сормовская шпана егознала!
Знакомство с ним Мурзик считал большой, очень большойудачей. Первый раз его жизнь перевернулась после знакомства сбоевиками-социалистами, второй – после встречи с дядей Поликарпом. И хотьникогда не верил он во всякую чушь вроде вознагражденной добродетели, однакокачал иногда головой, дивясь: а ведь этим человеком вознаградил его Господьименно за добродетель – за спасение пусть такого невзрачного и дажеотталкивающего на первый взгляд существа, как Верка Милова.
Неисповедимы пути Господни! Которым ведет он нас к спасению,которым к погибели – сего никому, ни-ко-му из смертных прозреть не суждено… Даи хвала Провидению, что так!
* * *
– Дура какая, вот дура! – Голос Марины дрожал, ивсе ее толстощекое лицо тряслось, и даже выпуклые глаза словно бы приплясывалив орбитах. – Такое дело поручили, такое дело! И все загубила.
– Мопся, слушай, да чего ты бесишься? – удивленноспросил Шурка. – Что случилось? Какое дело?
Она молчала, отворачивалась, злобно прикусывала крайлайковой перчатки. Наверное, со стороны могло показаться, что Мопся руки себесо злости грызет.
Как Аскалон.
Шурка еще маленький был, когда в Доримедонтове среди книжекнашлась одна – старинная-престаринная, изданная еще в тысяча семьсот каком-тогоду. Называлась она, кажется, «Старинные диковинки», и среди героев ее былкакой-то злой волшебник Аскалон, который если не мог кому-нибудь навредить, тосидел и злобно грыз свою руку, чтоб хоть себе боль причинить!
Вот так и Мопся сейчас.