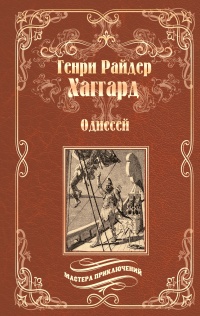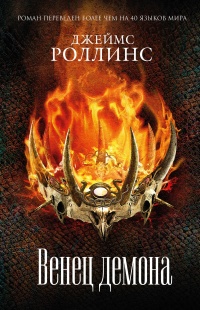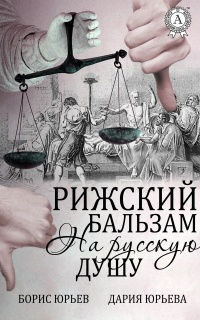Книга Пурга - Вениамин Колыхалов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сваленная ломучим гриппом лежит вдовица Валерия на широкозадой печи, слушает свирканье, чиликанье блажных сверчков. Забудется в коротком, горячем сне — заползают в голову кошмарные видения, обливающие тело потом неотлучного страха.
Приживалка остячка Груня раным-рано ушла на подледный лов рыбы. Ее престарелый, подслеповатый отец отправился с дробовичком в лес, захватив петли на зайцев. Матушка Валерии на ферме выцеживает из артельных жилистых буренок молочко, слушает рев скученного стада. Тихеевские малоудоистые коровы в предпосевную пору пашут и боронят — силенку теряют. Тыловое тягло и на них взвалено. Глядишь — какая-нибудь бабонька на сносях плетется по рыхлой земле, погаркивает на стельную коровенку. Качаются два грузных пуза над небороненным полем: пыхтит рогатая скотинка, кряхтит угрюмая крестьянка, ведя в поводу вынужденную коровью подмогу.
Мороз за оледенелыми оконцами избы под сорок. Жар в больном теле вдовицы тоже под сорок. Потемну заехал за помощницей дед Аггей. Услыхала Валерия знакомый колокольчик, с трудом оделась, вышла на крыльцо. С ночи пересиливала недомогание. На улице голову обнесло резкой болью. Подкосились ноги. Не грохнулась о ступеньки — поддержал верный Аггеюшка, завел в избу. При свете переносного фонаря разглядел бескровное лицо. Помог стянуть с Валерии телогрейку, пимы, взобраться на русскую печь.
Удалялся унылый колокольчик… замер совсем. В голове простуженной женщины долго бродило сбивное эхо. Опустела крестьянская изба. Остались Валерия, теленок-поеныш в углу на соломе да запечные сверчки, посылающие неизводимые, распевные мелодии.
На тонких шатких ногах поднялся пестренький телок, шарахнулся об стену. Устоял и зашумел в слежалую солому верткой струей.
Разомлела вдовица Валерия от подспинного тепла. Дремлет и чует глухой, остуженный голос отца Панкратия: «Есть кто дома?» Хочет дочь открыть рот: набит гусиным пухом. Вздрогнула, открыла глаза. Сон не сон: стоит у печки родной тятенька. Небритый, скуластый, с непогашенным огнем в цыганских дерзких глазах. Сколько раз пытала Валерия карты, просила сказать всю правду. Выпала наконец правда судьбы.
— Жи-и-и-во-о-ой?!
— Сам живой. Душа в могилу уложена. Ну, здравствуй!
Валерия разглядывала отца, терзаясь недоступностью многих ранее незнакомых черт. Годы несуразной разлуки набросили на лицо паучью клейкую сеть глубоких, кривых вдавлин. Потускнели карие глаза. Исчезла в них налетная зеркальность. Раньше редко подергивались на скулах желваки. Теперь они ходили под сухой кожей небольшими взлобками. Покачивалась на худой шее черноволосая голова, будто Панкратий начисто отрицал чьи-то неправильные доводы и обвинения.
— Болеешь, дочка? На тебе лица нет.
— С ночи неможется. Испростыла на деляне.
Во дворе послышалось разливистое ржание.
— В Томске себе подарок сделал: огневого коня купил. Не конь — жар-птица.
— Разбогател?
— Цыганское богатство — темная ночь да узда нескрипучая.
Прошелся по половицам, стараясь скрыть от дочери сильную хромоту. Справа от двери на гвозде висел хозяйский кнут: к нему никто не притрагивался со времени внезапного исчезновения кузнеца. Снял с гвоздя аккуратно свитую плетевину, поцеловал березовое кнутовище. Резким щелканьем-салютом возвестил о возвращении на принудительное подворье.
Развязав вещевой мешок, Панкратий задорно крикнул:
— Глянь, дочь, какие сапожки тебе привез. А шаль, а платье шелковое!
Не утерпев, Валерия сползла с печи, ахнула при виде неслыханных подарков.
— Все мне?!
— И матери есть что подарить… Дедушке Аггею кальсоны. Рыбачке Груне кофта. Ее отцу привез очки в золотой оправе. С немецкого убитого офицера снял: ему теперь никогда не придется нашу землю разглядывать.
— Тты нна ввойне ббыл?
— Везде побывал: в тюрьме, в батальоне штрафников, в госпитале. Повидал чужие сторонушки. Дюже мытарили меня, мозги выколачивали, как табак из трубки. Запихали в штрафбат. Говорят: смывай позор цыганской кровью. Отвечаю: за мной позора не значится. За родину биться без ваших понуканий пойду.
Напился Панкратий чайку, заваренного мелко нарезанной сушеной морковкой, похромал к кузнице. Чумазая дверь на самоковочных петлях открылась с заполошным визгом. Знакомый запах горна, окалины, копотных бревенчатых стен заставил припомнить далекое, былое время радостного труда на алтайщине. Качнул ручку — мехи давно потухшего горна пфыкнули, подняли из-под древесных углей фонтанчик пепла. Мужик был сейчас сам погашен несправедливостью жизни, как этот холодный горн. Будто не из-под углей вылетел серый пепел — выпорхнул прахом из ознобной, затаенной души. Насилие, свершаемое над Панкратием долгие годы, в артельной неказистой кузнице отозвалось резкой, сжимающей болью. Почему попирались его раскованный труд, воля, время, свобода? Он бросил табор, променял укоренелое цыганское кочевье на оседлость, кибитку на дом. Зажил налаженным, крепким хозяйством. Мужика ни за что ни про что сселили с обжитой земли, приставили над ним государственных надзирателей. Эти бездельники наблюдали за устройством сосланного люда, следили за его трудом. Они вслушивались в разговоры, выявляли крамольные мысли. Стоило заступиться Панкратию за честь дочери, отхлестать комендатурного охальника шипастым веничком — появилось дело о сопротивлении властям.
На земле главенствовал труд. Все, что было поставлено не рядом с ним, а над ним, являлось досадным грузом.
Панкратий был готов снова влиться в шумную таборную жизнь вольных соплеменников. Разбивать на берегах рек, у опушек подержанные, исколоченные дождями шатры. Трястись в погромыхивающей кибитке по кривунам российских дорог. Ничего кроме озлобления, желания мести он не получил взамен оставленной кочевой жизни. Табор тоже был гоним. Его торопились выпроводить из одной деревни в другую. Гнали из района в район. Из области в область. Кражи в магазинах, ларьках, пропажа коней, кур, тряпья с бельевых веревок иногда понапрасну списывались на цыган. Территориальное избавление от нежелательных таборов считалось делом узаконенным и правым.
Зачем потребовалось территориальное избавление от середняцких семей — кузнец не знал. Даже вбитый тополевый кол обрастает со временем ветками. Хозяина сорвали с земли, не дали укорениться.
Покосилась громоздкая наковальня в кузнице. Растрескалась под ней толстая чурка, испятнанная искрами. Инвалид поднял с земляного пола бракованную подкову. Кто-то учился ковать. Расплющив неказистую загогулину, отшвырнул к чану.
Не хотелось бывшему кузнецу принудительной артели разжигать горн, брать в руки молот, клещи, пробойник. Апатия ко всему сжала мужика посильнее клещей, пристукнула покрепче увесистого молота. Укороченная после операции нога отпихнула в угол уродливую подкову.
Возвращение отца исцелило Валерию. К обеду натопила баню. Дождалась исчезновения с углей угарной синевы, закрыла трубу. Отпущенный по инвалидности солдат потел на полке, с наслаждением чесал пятерней бока, грудь, забивая под ногти застарелую грязь. На дверь узкого предбанника набросил крючок: стеснялся, чтобы кто-нибудь из мужиков не зашел, не увидал изуродованное тело. Самые глубокие рубцы и воронки шрамов находились на правой ноге. Плечи, лопатки, руки выше локтевых суставов, икры ног были осыпаны крупными и мелкими ранами: пулевыми, осколочными, зарубцеванными, незатянутыми гнойными. Багровые, бурые, синеватые углубления и вздутия делали тело похожим на мишень, которую изрядно полили свинцом войны. Госпитальный хирург, извлекающий расплющенный зазубренный металл, разжимал над эмалированной ванночкой вымазанный кровью пинцет: шрапнельное крошево капля за каплей срывалось и шлепалось о гладкое дно. Военврач, страдающий одышкой, шутил: «Нашпиговали тебя, братец, металлоломом фрицы — стальной стал. Тебя легче на переплавку в мартен отдать…»