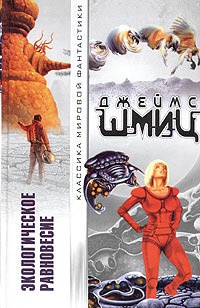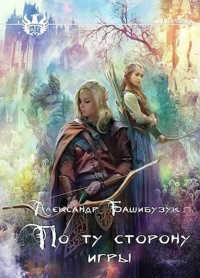Книга Проситель - Юрий Козлов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Пока он произносил (или думал, что произносит) эти слова, Климова, подобно циферблату часов, совершила очередной оборот вокруг секундной стрелки (гриба-ствола). Прямо перед собой писатель-фантаст Руслан Берендеев увидел блестящие, исполненные печали, космические вороньи глаза, рябое в капельках (трудового?) пота лицо.
— Я говорила, что где два, там двести двадцать два пути, — вцепилась ему в плечи Климова, — но ты выбрал наихудший — третий путь…
— Третий? — Берендеев понял, что, если не проснется прямо сейчас, больше не проснется никогда.
— Между двумя жерновами, — медленно соскользнула, как ожившая (и не пострадавшая!) дичь с шампура, с гриба-ствола Климова. — Ты хочешь уйти, что ж, я не возражаю. Попробуй на чем-нибудь сосредоточиться… Да вот хотя бы на этом… — выдвинула ящик кассы, протянула Берендееву сиреневую с серебром купюру достоинством в… семнадцать рублей. Такие странные номиналы были в ходу в мире, управляемом прямыми потомками императора Христа. — Посмотри на нее, — сказала Климова, — прикажи себе проснуться.
Берендеев взял купюру, изумившись слишком уж подробному (в смысле деталей, таких, скажем, как светящиеся глаза кошки в лопухах) ночному пейзажу, на ней изображенному, и в следующее мгновение проснулся.
Но почему-то в казарме на железной койке, где спал, когда двадцать с лишним лет назад служил в армии. Считая дни до дембеля, он, помнится, подолгу смотрел в потолок, отслеживая взглядом трещину, удивительно напоминавшую своими извивами реку Миссисипи на карте. Точно такую же трещину на потолке (ту самую?) писатель-фантаст Руслан Берендеев увидел и сейчас, проснувшись.
— Теплее, — услышал он голос Климовой, — но еще не горячо.
Почему-то она оказалась в форме уже давно не существующей советской армии — с голубыми петлицами ВВС и с лычками младшего сержанта на погонах. Берендеев вспомнил вольнонаемную девушку-сержанта, выдававшую им денежное содержание в штабе дивизии. Ефрейтор Берендеев смотрел на нее во все глаза, получая денежное содержание, она же не видела его в упор.
Берендеев снова уставился на купюру и на этот раз проснулся окончательно.
То есть не проснулся, а просто вышел из стеклянного цветочного павильона под дождь на Кутузовский проспект. По проспекту катились настоящие волны. Проезжающая «восьмерка» — стопроцентная «восьмерка», с облегчением отметил Берендеев, без наворотов с лобовым стеклом и светящимися дисками, — окатила его грязной водой.
— Сволочь! — отпрыгнул на тротуар Берендеев.
Это, вне всяких сомнений, был его мир.
Зачем-то он снова заглянул в павильон. Климова — в черной юбке и белой блузке — против ожидания не исчезла.
— Наверное, я должен это вернуть. — Берендеев протянул ей сиреневую с серебром (как картину художника Куинджи) семнадцатирублевую купюру, на которой был подробнейше изображен ночной сельский пейзаж. Кошачьи (или не кошачьи?) глаза по-прежнему светили из лопухов.
— Оставь себе, — сказала Климова.
— Зачем? — спросил Берендеев. — Боюсь, мне не удастся здесь ее разменять.
— Вокруг нас много миров, — сказала Климова, — переходя из одного в другой, третий, двести двадцать третий, человек обычно рвет все нити. Но иногда оставляет одну-единственную — больше не получается, — самую, как оказывается, для него важную. Оставь, чтобы… — тихо рассмеялась, — сознание не заржавело. Ты сам выбрал.
В детстве Мехмед не любил осень. Хоть он и жил тогда на юге, наступление осени: укрупнение — посредством обретения ночным небом свойств увеличительного стекла — звезд, потемнение моря, опадение листьев в парках и лесах — означало неизбежность холодов и, как следствие, затрудненность ночевок под открытым небом.
Летом происхождение и физический состав звезд нисколько не занимали Мехмеда. Осенью ему казалось, что они слеплены из светящегося белого льда, таинственным (и не лучшим) образом соединенного с его живым, теплым телом. Звезды отнимали живое тепло, высасывали его из Мехмеда, как осы хоботом из цветка нектар. Пронзительно-холодным осенью становился и солнечный свет. Промозглый ветер доставал Мехмеда сквозь дощатые стены пляжных лодочных сараев. Он пытался утеплять стены, расставляя по периметру отшлифованные телами, потемневшие от многих сошедших потов лежаки, но лежаки были решетчатыми, а потому не задерживали холод и ветер.
Сама жизнь начинала казаться осенью Мехмеду бессмысленно (в плане утепления стен) решетчатой, как пропитанный испарившимся потом лежак, и пронзительно-ненужной, враждебной, как ночной звездный лед, как холодный солнечный свет.
Весной и летом Мехмед не задумывался о сути и смысле жизни. Она текла легко, незаметно и самостоятельно, как река.
Осенью жизнь представлялась Мехмеду чем-то избыточным. Ледяная сила торможения одолевала теплую силу течения. Звезды-осы уже не просто высасывали тепло — жалили. И не было возможности от них уберечься, скрыться. Потолки пляжных павильонов напоминали дуршлаг — звезды-осы легко проникали сквозь них.
В мгновения ясного осознания невозможности согреться Мехмед не возражал расстаться с жизнью. Но иногда, когда удавалось капитально утеплиться, ночное созерцание звезд — допустим, сквозь капюшон трофейного германского на лебяжьем пуху спального мешка — наводило на непонятные мысли об огромности (в смысле возможностей) и вечности (в смысле поставленных задач) жизни вообще и жизни Мехмеда в частности. А также о том, что жизнь (вообще) значительно выше, шире и объемнее самых смелых и невероятных (неважно чьих) представлений. В такие мгновения Мехмед ощущал себя не столько хозяином собственной жизни, сколько теплым, точнее, застывающим посреди сплошного холода плевком, вмерзающим в лежак сперматозоидом, которому еще только предстояло (если предстояло) воплотиться в «пароходы, песни и другие добрые дела».
Мехмед, впрочем, сомневался, что это будут пароходы, песни и добрые (в привычном — линейном — смысле слова) дела. Вероятно, ему предстояло воплотиться во что-то иное. Мехмеда (помимо спального мешка) грела мысль о том, что когда-нибудь (посреди безграничного тепла) он будет вспоминать об этом холоде, как о кошмарном сне.
Сейчас — на исходе шестого десятка — Мехмед вспоминал о нем, как о счастливом сне.
Осень давно сделалась его любимейшим временем года, и, случалось, Мехмед продлевал собственное в ней пребывание, перелетая (естественно, по делам, в соответствии с тщательно выверенным пространственно-временным графиком) из света в тень и обратно (с востока на запад и с запада на восток), с континента на континент, из страны, где осень завершилась, в страну, где она только началась.
В растянувшемся осеннем путешествии мир начинал казаться мегаполисом-ковчегом, вставшим на якорь посреди океана классических желтых и оранжевых, а в Австралии, Африке, Южной Америке — красно-коричневых (коммуно-фашистских), серых как пепел, черных как смола листьев; а в иных местах и не листьев вовсе, а разноцветных, как будто проведенных сквозь воздух фломастерами, лиан, отпавших ветвистых стеблей, цветочной воздушной пыли, мясистых рыже-седых кактусовых баскетбольных и бейсбольных мячей, изогнутых кактусовых же рогов, сухих шелестящих лепестков, самодвижущихся на невидимом ветру по асфальту в виде причудливых, изменяющих геометрию ковров, в которые по щиколотку проваливались босые (как правило) ноги аборигенов и ноги (в дорогих ботинках) Мехмеда.