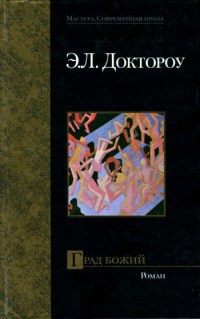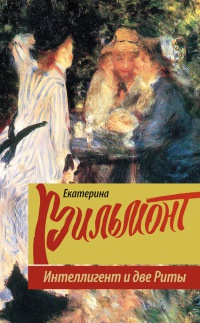Книга Божий мир - Александр Донских
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но приступы обжорства с годами накатывались и ломали его волю и чаще, и беспощаднее. И поглощал он иной раз за один присест до того много, что тут же из него и выворачивало. Имея всё больше денег, раздвигая свои возможности, он реже и реже задумывался о том, что надо измениться, осилить эту ужасную, омерзительную и, понимал он, губительную для него страсть к поглощению пищи.
Как-то раз Гриша нечаянно застал отца за подобной трапезой. Александр Иванович, вымазанный, с набитым ртом, почувствовал, будто ему в лицо плеснуло пламенем, а в голове тряско и обморочно закружило. Пытаясь объясниться с онемевшим, поражённым Гришей, он подавился стерляжьим куском, закашлялся. Сын не выдержал и нервно, блеюще засмеялся над отцом – напыженно красным, с раздутыми, как у хомяка, щёками, с выкатившимися глазами и мычащим.
Наступали в жизни Цирюльникова и такие минуты, в которые ему болезненно мерещилось, будто кто-то исподтишка посягает на его еду, собирается лишить этих вкусных разносолов. И он торопливо и суматошливо прятал пищу, рассовывал её по карманам, по углам и по шкафам и нашёптывал:
– Пошли, пошли, сволочи, прочь! Это моё, и то моё!..
А просветляясь умом и сердцем, понимал – вытворял нечто совершенно невозможное для себя. «Но когда, скажите, люди добрые, раньше я хорошо питался? Ведь можно сказать – впроголодь жил и в детстве, и в юности», – тотчас являлась угодливая, вёрткая мысль. Он пытался обмануть себя, однако тотчас сердился, потому что невозможно было не признать, что детство и юность его были замечательными, рос он при своих заботливых родителях в холе и неге. «Тьфу, какая дурость! Ну, как, как я могу так поступать? – тужил Александр Иванович. – А может, я того, свихнулся? Как нынче выражается молодёжь, шизую? Э-э, нет уж: я абсолютно здоров, и физически и психически! Просто, у одних порок – пьянство или ещё что-нибудь, а у меня – обжорство. Но ничего, братцы, я выдюжу!»
Но порочность Александра Ивановича уже сделалась гораздо шире и глубже, чем он мог и, видимо, способен был предполагать; и норовистость обманывать себя тоже развивалась и цепко держалась в нём.
Однажды его жену положили в больницу, прооперировали, она была совсем плоха, вымотана болезнью и уже находилась при смерти. Лечащий врач с суховатой профессиональной тревогой в голосе сообщил Цирюльникову, что необходимо одно дорогостоящее лекарство, немедля следует доставить его в больницу, а затем, когда больная чуть оклемается, желательно продолжить её лечение за границей в элитной клинике, иначе может произойти непоправимое.
Цирюльников не возражал, согласился. Однако внезапно, не приняв меры к лечению и спасению жены, отбыл в командировку, в которую мог бы отослать и любого своего менеджер или же холостого, лёгкого на подъём Хлебникова.
Александра Ивановича не было с неделю. А когда вернулся, то купил-таки необходимое лекарство и явился в больницу. Но ему сообщили, что его жена – умерла.
Он плакал, рыдал.
– Я не виноват, не виноват. Я ничего для неё не жалел, – как напроказивший и ожидающий возмездия мальчик, причитал он перед потупившимися врачами. Они не понимали его, посматривали насторожённо и неприветливо.
Ещё когда была жива Екатерина, Александр Иванович втихомолку, не сообщая жене, принялся возводить дом на берегу иркутского залива. По его замыслу, особняк должен был задаться самым знатным в округе, затмить собою все другие постройки. Капиталы имелись нешуточные, и Александру Ивановичу хотелось владеть уже не только деньгами, но и захватить огромное жизненное пространство и единолично владычествовать на нём. Он купил целых три гектара земли.
Хлебников всерьёз полюбопытствовал у товарища, не собирается ли тот заняться сельским хозяйством, но Цирюльников не отозвался, мрачно промолчал.
Капиталы, будто бы волшебным таинственным мощным магнитом, притягивало в «Благоwest», однако, беспрестанно недомогавшая, сидевшая почти что безвылазно дома Екатерина о заработках мужа мало что знала. Он скапливал тишком. Личную и корпоративную бухгалтерию вёл строго, придирчиво и выделял на содержание семьи столько, чтобы жена и сын были вполне или сносно сыты и одеты. И, быть может, изначально строил эти хоромы единственно для одного себя, потому как любовниц у него не водилось – денег было жаль даже на женщин, хотя к слабому полу Александра Ивановича влекло, тем более что выхудавшая, слабосильная, состарившаяся Екатерина уже не устраивала его. Временами Цирюльникову мерещилось, что денег у него мало, и он то, что причиталось его семье, отнимал у неё, утаивал.
* * *
После смерти жены он страшно горевал, маялся, бывал рассеян и задумчив, но, по-своему обыкновению, весь встряхивался и возгорался, когда заговаривали о деньгах, о прибыли, о его личных доходах. И если дела в «Благоweste» повёртывались так, что предвиделся солидный куш, выгодная сделка, он окунался в работу, и был привычно энергичен, собран, дальновиден. Но для своих сотрудников и Хлебникова Александр Иванович оставался странен и непонятен: то – безмерно щедрый, то – до жестокости прижимистый, то – сентиментально совестливый, то – напрочь запертый для чужого горя.
Хлебников однажды открыто, как и принято было между ними, сказал Цирюльникову:
– Саня, ты изменился настолько, что не пойму подчас – ты ли, дружище, передо мной? Словно уже нет того жизнерадостного и распахнутого Сани Цирюльникова, а кто-то другой влез на его место. – Помолчал со сжатыми губами. Наверное, не хотел говорить, но сказал: – Деньги, большие деньги, чую, сломали тебя. А ведь они только лишь средство, чтобы стать лучше. Понимаешь?
Цирюльников гнетуще посмотрел на товарища и не откликнулся. Он теперь нередко отмалчивался – быть может, явственно не понимая, как же следует объяснить свои непривычные для окружающих поступки, свою жизнь, свои желания и тяготения.
И Хлебников и Цирюльников в равных долях имели права на управление фирмой, на её корпоративные капиталы и имущество, но Хлебников сразу, ещё в самом начале «Благоwesta» уступил лидирующее место товарищу, попросил его стать генеральным:
– У тебя, Саня, нешуточный опыт управленца, надёжные связи в чиновничьей среде. Да и весь ты такой солидный, внушительный да ещё к тому же басовитый мужичина. Разделяй и властвуй! Но, смотри мне, не зарывайся!
Однако с некоторых пор Цирюльников подолгу не выплачивал работникам зарплат, обманывая их, что нет денег. А то и, ничего внятно никому не объясняя, урезал жалованье, в самодурном пылу выгонял самых толковых сотрудников, если те возмущались.
Хлебников создал при «Благоweste» благотворительный фонд. Но с годами Цирюльников всё реже перечислял фонду деньги, неоправданно задерживал с ними. Хлебников возмущался, негодовал.
– Савелий, – бубнил Цирюльников, – я ведь понимаю тебя: надо делиться с сирыми да убогими, но, пойми ты, деньги-то, чёрт возьми, мы с тобой не украли – заработали как-никак!
Но иной раз удивлял и Савелия, и менеджеров своей щедростью и уступчивостью. Чуть попросят – сразу даёт, да столько отваливает, что и Хлебников начинает ворчать, вроде как жалея денег: