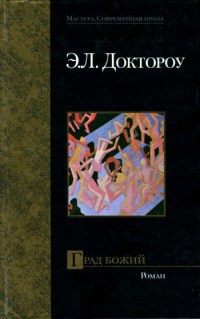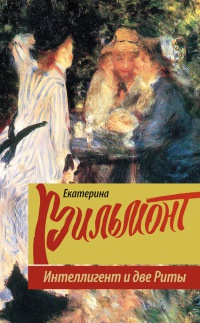Книга Божий мир - Александр Донских
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Хм. Романтик ты, однако. Тимуровец с уклоном на поповщину. Мне хотя бы немножко разжиться деньжишками, чтобы Катьку мало-мало подлечить да Гришку вывести в люди. Я уж о каких-то таких особенных деньгах и не помышляю.
– А вдруг нам повезёт на полную катушку!
– Мне, да чтобы повезло? Перекрестись, Савелушка ты мой христовенький! Сорвали деньгу на лесе – чудненько, конечно. Но кто знает, вдруг завтра-послезавтра прогорим.
– И всё же – давай поклянёмся.
– Хм. Ладно, клянусь.
– Клянусь.
И они нежно-твёрдо пожали друг другу руки.
Так начался стремительный взлёт «Благоwestа», во всём благополучного и безупречного, насколько, разумеется, можно было оставаться безупречным и незамаранным в России – оттаявшей, растекавшейся распутицей, потрясённой до последней жилки, но неукротимо-бешено рвавшейся куда-то вперёд, вперёд.
* * *
Вскоре оба крепко-накрепко уяснили: проще и вернее плыть по мутным, половодным рекам русской деловой жизни в тогда ещё утлой, неустойчивой лодчонке своего бизнеса так: оптом скупать продукты питания в Средней Азии, где они почему-то были дешевле, и с наценкой перепродавать по Сибири и Северу. И – ринулись, уже подчистую, без страха и сожаления уволившись с прежних мест. Через два месяца у предприимчивых, но осторожных, считавших каждую копейку Цирюльникова и Хлебникова, насидевших в чиновничьем и учёном креслах нешуточных силёнок и задора, скопилось уже столько денег, что, наверное, и в десять пакетов они не вместились бы. Однако на руках у них денег бывало мало, какие-то крохи, – всё бросали в оборот.
Потом обзавелись промышленными площадками, на которых производили, что придётся, – колбасу, мягкую мебель, срубы бань, траурные венки, берёзовые веники, ещё что-то и как-то. Кое-что пошло по-настоящему, оборотисто, принося верный и заметный доход.
Если раньше с большой неохотой, как подневольные, брели они на работу, то теперь зачастую и заночёвывали в офисе, чтобы не расходовать минуты на дорогу домой и обратно, а рано поутру сразу окунуться в этот желанный проворный поток дел и хлопот, тех дел и хлопот, которые каждую секунду и минуту присовокупляли деньги, деньги и ещё, ещё деньги. Дома не могли усидеть – беспокоил нарастающий внутренний зуд, который словно бы намекал: «Если сей же час не появитесь там-то и там-то, не переговорите с тем-то и с тем-то – провороните выгодную сделку, упустите ходовой дешёвый товар. Вперёд же! Бегом!»
Через год с небольшим они воздвигли в центре города, на самой его роевой улице особняк офиса, аж в три этажа, и перешли на относительно спокойный, размеренный кабинетный ритм, а мотаться по весям и городам могут, ясно, и наёмные сотрудники – менеджеры.
– Мы – мозг, голова, а они – наши ноги, – подытожил в разговоре с Хлебниковым Цирюльников, усаживаясь в своём новом, строгого, но белоснежного евростиля кабинете на только что купленную обновку – на широкое кресло в дорогой кожаной обтяжке.
Одним солнечным летним утром Хлебников и Цирюльников проезжали в служебном автомобиле мимо церкви. По левую руку светилась Ангара, по правую с надменной величавостью высился громоздкий серый дом, а между ними рыхлым приземистым снеговиком, который словно бы перепутал времена года, белелась старая, единственно оставшаяся от средневекового острога церковь. Донесло до слуха пересыпь колокольных звонов. Хлебников попросил водителя притормозить:
– Послушаем: ведь благовест, – подмигнул Савелий Цирюльникову, вальяжно развалившемуся на мягком сиденье.
– Да ну тебя с твоим опиумом для народа. Эй, водила, трогай!
– Погоди, Саня. Послушаем хотя бы минутку.
Сидели с открытой дверкой в этом представительском, изысканной отделки салоне, слушали. Но Цирюльников вертелся, покряхтывал, порывался пальцем ткнуть водителя в спину. Тало-снежно пахло рекой, сырыми газонами и клумбами сквера. Мимо шуршали автомобили, зачем-то сбрасывали скорость, и сдавалось Хлебникову, что они не хотели перебивать колокольные звоны. Ему было приятно думать именно так, а не о том, что автомобили просто-напросто не могут не сбавить хода перед опасным поворотом и последующим сложным зигзагом. Цирюльников искоса, со строгой важностью взирал на своего не к месту и не ко времени «расслабившегося» товарища. «Наивный до мозга костей, – лениво подумал Александр Иванович. – Вон как внимает звукам небес, даже весь подался вперёд, будто выслуживается перед небесной канцелярией. Артист из погорелого театра!»
– А ведь нам Бог помогает, Саня. Как думаешь?
– Чаво? – развязно широко и с притворством зевнул Цирюльников, беспричинно похрустывая толстыми пальцами. – Я думаю, что мы с тобой пашем дённо и нощно, как два ломовых коня. – Помолчал, досадливо покусывая губу. – Что ж, помогает, так спасибо. Свечку при случае поставлю. Савелий, слышь, надо ехать! Время – деньги. Не дай Боже, сорвётся сделка, я тебя после самого вместо «языка» в колокол подвешу и буду благовестить! И горлопанить с колокольни: «Слушай, честной народ, как звенит пустая головушка бедового Савелия Хлебникова!»
– А-а, помянул-таки Бога! – искренне возликовал Хлебников, потрепав Цирюльникова за плечи. – Ладно уж, деловой толстобрюхий сухарь, покатили!
* * *
Цирюльников любил плотно и вкусно покушать, – что, казалось бы, такого необычного? Но с некоторых пор он стал примечать за собой странную, настораживающую его самого привычку: ему хотелось в один присест много, очень много съесть. И порой он настолько много, жадно, резво съедал, что – выворачивающе тошнило и жестоко резало в животе. Бывало, на особинку накупит продуктов; всё больше дорогостоящих колбас, копчёностей, балыков, свежих отборных фруктов, орехов, шоколада, какой-то искуснейшей выпечки, тортов, красной и чёрной икры, всё исключительно изысканного, необыкновенно вкусного. Зачем-то спрячется ото всех и в одиночку, тишком, будто украл, – ест, ест, ест. Ест, не насыщаясь. Всполохи болей в перегруженном, раздутом желудке и омерзительные, с иканиями и отрыжками недомогания заставляли его прерываться. Он тягостно приподымался из-за стола с горами объедков, пустыми, но наливающимися тупой тревогой глазами озирался, словно очнулся ото сна или забытья и теперь пробует выяснить, не видел ли его кто-нибудь за этим, несомненно, ненормальным занятием. Придерживая по-курдючьи выва́ливавшийся из-за ремня живот, брёл туда, где можно прилечь, отлежаться, очухаться, а лучше – вздремнуть.
И вспоминая об этих – как Цирюльников сам над собой посмеивался – «секретных застольях», ему иной раз мнилось, что вспоминает вовсе не о себе, а о ком-то постороннем, жизнь которого он, уважаемый, серьёзный, степенный человек, случайно подсмотрел или же, быть может, увидел в кино и вот теперь – осуждает, не может не осуждать. «Умом я начинаю трогаться, что ли?» – усмехался он, но оторопь, однако же, схватывала за сердце.
Зачем-то успокаивал себя, но так, будто говорил с кем-то посторонним: «Ну-у, подумаешь, покушал один, в одиночестве гордом, так сказать. Душа, понимаешь ли, да желудок требуют, жаждут, паскуды, а в присутствии людей обжираться, извините за выражение, зазорно. Ведь не свинья же я! Да и деньги водятся – многое чего могу и хочу себе позволить. Ведь я, чёрт возьми, не держу голодом семью, они тоже питаются будь здоров как…» Такие рассуждения кое-как придавливали в Александре Ивановиче какой-то глубинный, но некрепкий противоборческий голосок. Однако он, выросший в порядочном окружении и сам создавший приличную семью, тем не менее чувствовал себя неловко – виновато и опечаленно.