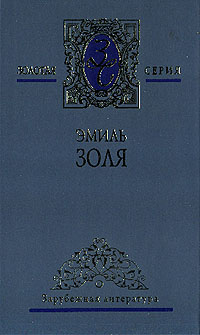Книга Влюбленный пленник - Жан Жене
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Дауд Талами работал в Центре палестинских исследований в Бейруте. Из его письма, присланного мне в Париж, я узнал, что в 1972 году Хамзу отправили в лагерь Зарка, должно быть, недалеко от того места, где, приземлились три самолета Швейцарских авиалиний. Он написал, что ему это стало известно со слов поэта Халеба Абу Халеба. После резни в Аджлуне и Ирбиде солдаты иорданской армии пытали Хамзу, требуя признаться, что он является командиром группы фидаинов. Все ноги его были изранены. Если сами пытки представить невозможно, недоставало воображения, то о злобе и ненависти бедуинов, черкесов, порочности короля мне было хорошо известно со слов палестинцев.
Кем были эти тюремщики Хамзы? Каким пыткам они его подвергали? Я вспоминаю Хамзу и его семью, отношение между матерью и сыном, вполне вероятно, мною придуманные, и этого достаточно, чтобы оберегать и хранить эту сдвоенную жизнь, ставшую необходимой, как некий живой организм, чье разрушение и гибель я не могу допустить; я не был уверен до конца, что присутствие его во мне поддерживало мою верность сопротивлению, хотя и догадывался, что так оно и есть; бытие Хамзы и его матери – вернее, их связь мать-сын и сын-командир – проникнув в меня, зажило самостоятельной жизнью, став эдаким независимым органом-захватчиком, фибромой, пускающей все новые и новые побеги, оно казалось того же порядка, что животная и растительная жизнь тропиков; меня вовсе не пугало, что эта пара во мне проживала свою судьбу, ведь она символизировала сопротивление, во всяком случае, то, каким оно сформировалось в моих рассуждениях и мыслях о нем.
Символ, хотя и не знаю, чего именно, эта пара, виденная мною в течение одного вечера и половины дня, сосредоточивала и концентрировала в себе, только в себе одной, все сопротивление, оставаясь при этом этой особой парой: Хамза-Его Мать. В тот самый момент, когда я читал письмо Дауда, оба компонента этой пары подвергались пыткам, каждый своим. Монархия укреплялась благодаря американскому вооружению, так что поддельные королевские короны, нависающие над улицами, проспектами и площадями Аммана, поначалу вырезанные из алюминиевых пластинок, таких тонких, что казались двухмерными, превращались теперь в посеребренный, иногда позолоченный металл и становились куполами, увенчанными пятиконечной звездой, а король, тонкий и плоский, как еще не исписанная страница, приобретал вес, плотность, третье, а возможно, и четвертое измерение, и превращался в страницу с письменами и смыслом.
Открытая мной скобка вскоре закроется. Модель поведения некоторых воинов-палестинцев порой напоминает материнскую. Один командир, в подчинении у которого было два десятка фидаинов, ложился спать последним, проверив, розданы ли одеяла, тепло ли будет солдатам ночью; другой переходил от группы к группе до самого Иордана, раздавал фидаинам письма. Это, действительно, материнские – не женские – поступки, когда своих солдат с едва пробивающимся пушком над губами, еще не усы, а просто щепотка мягких волосинок между ртом и носом, командиры считают любимыми сыновьями, а не подчиненными, как представляется Западу. Назвать мать мужественной можно было бы по смыслу ее поступков. Хамза был ею воспитан, можно допустить, что мужчина, и только мужчина знает, что подходит именно мужчине; а женщины в лагерях являли столь сильные качества полководца, что этому слову следовало бы обзавестись женским родом. Когда американская мужественная (имеется в виду половая принадлежность) молодежь бомбила Ханой и Северный Вьетнам, женское воображение не желало представить самое страшное. Слишком много нежности или слишком выраженная нежность, казалось, свидетельствовали о почти любовном союзе между двумя юнцами в этих запретных для женщин горах, и что в том странного, если лишенная растительности кожа вздрагивала от прикосновения кожи шероховатой и щетинистой, когда на севере и на юге само пространство щетинилось стальной арматурой, колючками и заграждениями, готовыми выстрелить пушками. Уж поверьте, здесь подстерегала смерть, это была единственная инстанция, отменяющая все остальные. Какой вынести приговор внезапно вспыхнувшему желанию, которое принимали, как принимают соборование? Что произошло в Зарка? Как там живет Хамза, если он еще там живет? Даже если ты готов вообразить самые страшные пытки, одного лишь воображения недостаточно, чтобы представить шабаш истязателей и истязаемых. А эти пыточные инструменты с их изысканной формой, какую роль играют они в этом действе унижения тела и духа, когда и то, и другое терзают, раздирая на части, до предела, до чувственного наслаждения? А человеческий разум, сам, один, способен изобрести формы? Нам кажется, мы интуитивно понимает, где в освободительных войнах наслаждение, зачастую сексуальное наслаждение, а где обнаженное страдание. Подозрения есть, но точно ничего не известно, бывает, что и ошибаешься. Говорить ничего не надо, ведь мы ничего не знаем об их тесной связи, их сообщничестве: палачей, порой слишком нежных, и подвергаемых пыткам жертв, чьи стоны и жалобы зачастую искусно пропеты.
В восьмидесятые годы в Европе резко увеличилось количество телевизионной рекламы, и, не решаясь в открытую насмехаться над Востоком и арабским миром, создатели этих картинок иронизировали над исламскими, персидскими или египетскими легендами; вот, к примеру: идет по пустыне караван четырех- или пятигорбых верблюдов, когда верблюд испражняется, один из горбов исчезает, а испражняется он гигантской пачкой «Кэмела»; а еще четыре шейха взлетали на четырех коврах, торопясь на погребение, это была бешеная погоня над городами и минаретами, а самый неумелый и неловкий шейх выигрывал в лотерею ковер, на котором прилетел. Левитация, которую так несложно изобразить в кино, может быть забавной и издевательской, видя ее по телевизору, я был слишком взволнован, чтобы пытаться отыскать причину этого волнения. А что если все сказочные фантазии были проекцией – это слово здесь необходимо – того, что мы не осмеливаемся увидеть в самих себе? Больше всего меня смущала эта мощь пары мать-Хамза, созвучной в моем представлении паре Пьета-Распятый. Это беспокойство, этот восхитительный прорыв флегмоны подвигнули меня совершить последнее путешествие Париж-Амман, я полагал, что это путешествие в пустыню, то есть, пустынное пространство, лишенное всякой жизни, бесконечное, порождающее миражи и видения, от джиннов до Отца Шарля де Фуко, иссушающее глотки и дух, а еще это последнее путешествие я предпринял, чтобы повиноваться реальности, которая, как мне представлялась, существовала вне меня, а сам я находился во власти давнего, еще детского сновидения, преследовавшего меня с пятилетнего возраста; если только мне не захотелось, с приближением смерти, написать последнюю книгу о путешествии. Первое путешествие, в отличие от этого, я совершил, унесенный лучами взглядов двух фидаинов, которые стучали по крышкам деревянных еловых гробов, приготовленных для двух новых покойников; лучи уносили меня, а я продолжал путешествие, фидаины, бредущие в направлении черной ямы, сменяли друг друга до полного моего – не их – изнеможения, а я, как те самые шейхи, парил на ковре-самолете, меня уносили их взгляды, их ноги, их лица. Как тот, присевший на корточки шейх, я, в конце концов, выбился из сил, и сегодня спрашиваю себя о том своем первом пребывании в Палестине: может, мне только показалось, что я путешествовал, а на самом деле, я не продвинулся ни на миллиметр? Потому что мне кажется, будто во время первого моего путешествия из Парижа в Бейрут не произошло ничего удивительного или неожиданного, кроме, разве что, того едва ощутимого удивления, когда Махмуд Хамшари проводил меня в Даръа. Я почувствовал раздражение, когда молодой львенок принял меня почти торжественно – стойка смирно, приветствие на английском, горизонтально вытянутая ладонь на уровне бровей – демонстрируя первый памятник жертвам в еще никому не известном лагере Шатилы; тогда никто не ожидал, что сегодня они будут соперничать славой с Орадуром: какая из двух деревень более знаменита? Но всё мое пребывание там длиною более полутора лет было, если можно так выразиться, освещено лучами, струящимися из глаз тех двух фидаинов, что выстукивали всё новые ритмы по крышкам гробов; в течение всего этого путешествия каждый раз, когда меня одолевала усталость, какой-нибудь двадцатилетний фидаин начинал развешивать белье, выслушивал меня, и я слушал его всю ночь, он возвышался надо мной, как минарет, улыбался, когда мы ели сардины из одной банки, и из глаз его тоже струились лучи, как и у тех двух фидаинов, стучавших по крышкам гробов в Даръа; эти лучи, а вовсе не самолеты, переносили меня, и возможно, я и счастлив-то был именно от того, что меня перенесли в казарму?