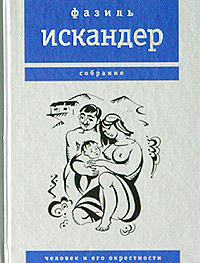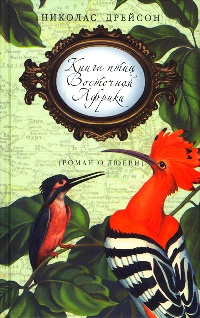Книга Два капитана - Вениамин Каверин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Да, я слушаю, — сказал я.
— Товарищ Григорьев, — сказал другой голос. Это был уполномоченный НКВД по Заполярью. — Срочное дело. Вам предстоит полёт с доктором Павловым в становище Ванокан… Вы знаете Ледкова?
— Ещё бы!..
Это был член окрисполкома — один из самых уважаемых людей на Севере. Его все знали.
— Он ранен, требуется срочная помощь. Когда вы можете вылететь?
— Через час, — отвечал я.
— Доктор, а вы?..
Я не слышал, что ответил доктор.
— И инструменты все в порядке?.. Отлично, через час я жду вас на аэродроме.
Вот кто был на самолёте утром 5 марта, когда мы поднялись в Заполярье и взяли курс на северо-восток: доктор, очень озабоченный, в тёмных очках, которые удивительно его изменили, мой бортмеханик Лури, один из самых популярных людей в Заполярье или в любом другом месте, где он появлялся хотя бы на три — четыре дня, и я.
Это был мой пятнадцатый полёт на Севере, но впервые я летел в район, где ещё не видели самолёта. Становище Ванокан — это очень глухое место в районе одного из притоков Пясины. Впрочем, доктор бывал на Пясине и говорил, что найти Ванокан нетрудно.
Член окрисполкома был ранен. Это произошло на охоте, а может быть, и не на охоте. Во всяком случае, уполномоченный НКВД просил нас, то есть меня и доктора, выяснить, при каких обстоятельствах это произошло. В Ванокан мы должны были прилететь приблизительно в третьем часу, ещё засветло. Но на всякий случай мы взяли с собой: продовольствие — из расчёта на трёх человек — на тридцать суток, примус, ракетницу с ракетами, ружьё с патронами, лопаты, палатку, топор.
Насчёт погоды я знал только одно: что в Заполярье прекрасная погода. Но какова ока по маршруту — этого я не знал. «Заказывать» её было и некогда и некому.
Итак, всё было в порядке, когда мы поднялись в Заполярье и взяли курс на северо-восток. Всё в порядке — и я не думал больше о том, что накануне ночью услышал от Вали. Внизу был виден Енисей — широкая белая лента среди белых берегов, вдоль которых шёл лес, то приближаясь, то удаляясь. Голова у меня немного болела после бессонной ночи, и иногда начинало звенеть в ушах, но именно в ушах, а мотор работал превосходно.
Потом я ушёл от реки, и началась тундра — ровная, бесконечная, снежная, ни одной чёрной точки, не за что уцепиться глазу…
Почему я был так уверен, что этого не может случиться? Мне следовало написать ей, когда она прислала мне привет через Саню. Но я не хотел уступать ей ни в чём до тех пор, пока не докажу, что я ни в чём не виноват перед нею. Но никогда нельзя быть слишком уверенным в том, что тебя любят; что тебя любят, несмотря ни на что; что может пройти ещё пять или десять лет, и тебя не разлюбят.
Снег, снег, снег — куда ни взглянешь. Впереди были облака, и я набрал высоту и вошёл в них: лучше идти вслепую, чем над этим бесконечным, унылым, белым, искажающим перспективу фоном…
У меня не было никакой особенной злобы к Ромашке, хотя, если бы он был сейчас здесь, вероятно, я бы убил его. Я не чувствовал к нему злобы, потому что это было невозможно — вообразить этого человека с кошачьими космами на голове, с пылающими ушами, этого человека, который в тринадцать лет решил разбогатеть и всё копил и считал свои деньги, — вообразить его рядом с Катей! Это было так же бессмысленно, что он смеет желать этого, как если бы он пожелал стать другим — не самим собою, а таким, как Катя, с её прямотой и красотой.
Мы прошли эту облачность и вошли в другую, за которой шёл снег и только где-то внизу начинал сверкать под солнцем, которое было закрыто от нас облаками.
У меня стали мёрзнуть ноги, и я пожалел, что надел эти унты, которые были мне малы, а не другую, более просторную пару.
Значит, решено — я еду в Москву. Нужно только предупредить её о моём приезде. Я должен написать ей письмо — такое письмо, чтобы она прочитала и не забыла…
Мы вышли из слоя тёмных облаков, и солнце, как всегда, когда выходишь, показалось особенно ярким, — а я всё никак не мог решить, начать ли своё письмо просто «Катя» или «Дорогая Катя».
«Мы давно не переписывались, Катя, и ты, вероятно, будешь удивлена, взглянув на эту подпись. Как ты живёшь? Я не писал тебе так долго, потому что думал, что ты сердишься на меня. Конечно, ты права, я виноват в том, что мы так долго не встречались. Мне нужно было заехать в Москву на обратном пути из Энска и встретиться с тобою, а не бродить вокруг твоего дома, как будто мне восемнадцать лет…»
Я уже забыл о письме. Мне нужно было просто увезти её — ведь я же отлично знал, что она не должна оставаться в этом фальшивом и несчастном доме, с этим страшным и фальшивым Николаем Антонычем, которому она верит.
Вот и горы! Они торчали из облаков, освещённые солнцем, то голые, то покрытые ослепительным снегом. Я видел в зеркале, как Лури поднял руку, как будто поздоровался с ним, и что-то закричал доктору, и доктор, смешной, похожий на какого-то круглого забавного зверя, равнодушно кивнул головой.
В редких просветах были видны ущелья — прекрасные, очень длинные ущелья, — верная смерть в случае вынужденной посадки. Я невольно подумал об этом, а потом снова стал сочинять письмо, и сочинял до тех пор, пока мне не пришлось заняться другими, более срочными делами.
Как будто и ветра не было, когда первые огромные тучи снега стали срываться с вершин и кружиться, поднимаясь всё выше и выше.
Зеркало, в котором я только что видел доктора и Лури, вдруг потемнело, замёрзло, а ещё через десять минут уже нельзя было вообразить, что над нами только что было солнце и небо. Теперь не было ни земли, ни солнца, ни неба. Всё перемешалось. Ветер догнал нас и ударил сперва слева, потом в лоб, потом снова слева, так что нас сразу унесло куда-то в сторону, где тоже был туман и шёл снег, мелкий, твёрдый, который очень больно бил по лицу и сразу вцепился во все петли и щели одежды. Потом наступила ночь, так что, когда я снова посмотрел в зеркало, я больше уже ничего не увидел. Ничего не было видно вокруг, и некоторое время я вёл самолёт в полной темноте, как будто натыкаясь на стены, потому что всюду были настоящие стены из снега, со всех сторон подпираемого ветром. То я пробивал их, то отступал, то снова пробивал, то оказывался далеко под ними. Это было самое страшное — самолёт вдруг падал на полтораста — двести метров, а я не знал, какой высоты были горы, почему-то не отмеченные на моей карте. Всё, что я мог сделать, — это развернуться на сто восемьдесят градусов и пойти назад к Енисею. Я увижу берега, пройду над высоким берегом, и мы обойдём пургу или, в крайнем случае, вернёмся назад в Заполярье.
Легко сказать — развернуться! Самолёт почему-то затрясло, когда я дал левую ногу, и нас снова бросило в сторону, но я продолжал разворачиваться. Кажется, я что-то сказал машине. Именно в эту минуту я почувствовал, что с мотором творится что-то неладное, — жаль, потому что внизу были те же ущелья, которые — я очень на это рассчитывал — остались далеко позади. Они мелькнули и пропали, потом снова мелькнули — длинные и совершенно безнадёжные, — нас бы не нашли, и никто бы никогда не узнал, как это случилось. Нужно было уйти от них, и я ушёл, хотя самолёт был то взвешен в воздухе, как будто эта проклятая пурга задумывалась на секунду, что бы ещё с нами сделать, то болтался и шёл как хотел. Я ушёл, но с мотором всё-таки творилось что-то неладное, и нужно было садиться. Нужно было садиться очень медленно и следить за указателем поворотов, и не допускать кренов, и всё время думать о земле, которая где-то внизу, и неизвестно, где она и какая. Что-то стучало у меня в голове, как часы, я громко разговаривал с самим собой и с машиной. Но я не боялся. Я помню только, как мне стало на мгновение жарко, когда какая-то масса пронеслась рядом с самолётом; я бросился в сторону от неё и чуть не царапнул крылом о землю.