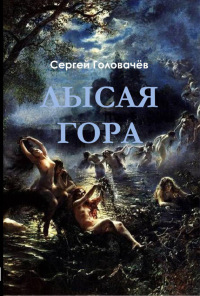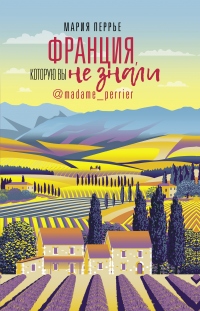Книга Околоноля - Натан Дубовицкий
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он обожал разводить огонь под котлом и смотреть, как частыми каплями набегает в бутыль легендарный первач. Бабушка разрешала подставить под горячие капли мизинец и снять пробу. Вкус был несладкий, взрослый, тревожный и многообещающий (как поцелуй девочки из старшего класса). Этим и ограничивалась его сопричастность свободному промыслу предков.
Однажды давно и другой раз лет десять спустя, сильно постарев, в последнее лето в деревне, в их ворожбе соучаствовал отвечавший за округу милиционер, дядя Анискин, печальнейший, стеснявшийся своей кургузой формы и погон без звёздочек, и кобуры без пистолета, и очевидного, прямо на лицо нахлобученного алкоголизма. Он помогал поднести дрова и перелить в котёл брагу, молча просиживал до завершения работ, выпивал смущённо несколько гранёных стаканчиков и плёлся обратно к облепленному соседскими ребятами мотоциклу. Бабушка набирала ему с собой в бутылку типа «огнетушитель» свежего сивого вина и, видно, поэтому ни разу её карьера не прерывалась судебными приставаниями.
Хозяина своего, егорова деда, Антонина Павловна давно схоронила и жила-была себе на отшибе; кроме варения русской аквавиты, промышляла ловлей рыбы, птицы и некрупного зверя, починкой радиоприёмников и крыш, иконописью и бодрой игрой на трофейной (дед взял Берлин) мандолине. Столь разноплановая предприимчивость должна была сделать её дивно богатой, но увы, она не была исключением — что ни делай русский крестьянский человек, закопошится ли в навозе, в космос ли закинется, семь ли потов сойдёт с него у домны или семь кровей на войне, хоть нефть и золото, и американские облигации брызнут у него из-под граблей, так что на его месте и француз уже богат был бы, и китаец, и хохол, и даже беспечный бербер, а к русскому — не липнет капитал. Нейдёт к нему копейка никакая, ни большая, ни маленькая. Не льнёт, и всё тут, высоколиквидный актив.
Характера Антонина Павловна так же небогатого была. Душа её была отделана скромно, совсем наивно — светлым по светлому, одним светом и больше ничем, и свет этот был доброта. За отсутствием иных черт и красок характера, доброте этой не с чем было контрастировать, нечем отличаться, и выходила она неброской, ненатужной, само собой разумеющейся. В ней, в доброте этой, не замечая её, как не замечают чистой сердечной работы здоровые люди, обитал ранний Егор, пока не вырос из неё, пока не перестала помещаться в деревенской простоте его с годами располневшая, огрубевшая и перепутанная внутренне судьба.
Антонине Павловне не являлся некто на пути в райцентр, и сам yhvh[3]не заговаривал с ней пронзительным назойливым тенором из облака, бури и мрака, равно из неопалимо горящей крапивы; не постилась она, не молилась, хоть и писала иконы (так, ради денег только) и не совсем религиозный фикус рос у неё на «тераске», а всё же была она святая, не сомневался Егор. В подтверждение сего господь милостиво украсил невзрачное житие св. Антонины лютой, медлительной, натурально, мученической смертию. Отвратительную и тягчайшую болезнь, самое название которой следовало бы запретить упоминать, не говоря об ужасающих подробностях её течения, поскольку она есть оскорбление человеков, — такой недуг наслал вездесущий на рабу свою. И подсёк рабу свою аки рыбу древнюю, тихую, и тащил на свой берег млечного ручья Вселенной неспешно, плавно, чтоб не сорвалась уловленная душа и не пропала. Целый год водил, отпускал было и вновь натягивал лесу. И вот — утомилась старушка цепляться за боль, которой стало всё вокруг, не могла держаться за жизнь, потому что жизнь раскалилась от боли добела, и улеглась раба, как заговоренная боль, и Он взял её, взял да и спас.
Егор видел бабушку в начале крушения, когда болезнь ещё только обхаживала её, осматривалась в покамест обычном её теле, пристраивалась поудобнее, приготовляя первый укус, ещё несмертельный, почти дружелюбный, ознакомительный. Эти хлопоты смерти, размеренную деловитость беды разглядел Егор в бабушкиных глазах и спросил только «за что? её-то за что так?» не ясно, у кого.
Потом он бросил институт, название которого так и не запомнил с тех пор, как поступил, напросился на службу в СА и там уже, коротая бедные будни молодого бойца, получил сообщение об успении Антонины Павловны. Пыль к пыли, воистину так, аминь. Егор ушёл в технический парк, где прятались нестойкие «духи» вроде него от «тягот и лишений воинской службы» и подряд часа четыре прогоревал своё первое взрослое горе — негромко, скромно, как положено.
В московской внелетней, осенне-зимней части своей биографии Егор нормально закончил нормальную школу, поступил в вышеупомянутый, малоизвестный ему самому, первый попавшийся институт. Учился он легко, успевал, но без рвения. К наукам, как, кажется, и ко всему почитаемому, относился с неведомо откуда бравшимся снисходительным, насмешливым любопытством, как к провинциальным достопримечательностям, вокруг которых толпятся и шумят небогатые туристы. Порожнего времени получалось много и расходилось оно на подруг, друзей и вот ещё — в метро, перед сном, за едой, до и после секса, по мере распития вин и водок — на чтение, чтение, чтение книжищ, книжиц, книжек, книжонок и просто книг, сначала без разбора, с тем же насмешливым любопытством, а потом всё избирательнее, точнее.
В прошлом тысячелетии, когда вырабатывались его литературные привычки, принято ещё было читать романы. Это такие тучные бумажные книги, до отказа набитые мириадами букв. В те почти былинные годы водились ещё на Руси чудо-читатели, способные осилить «Войну и мир», «Жизнь Клима Самгина» и даже — «Игру стеклянных бус» в любом переводе. И то сказать, чем было заняться правоверным марксианам, бесплатно образованным и хорошо высыпавшимся на летаргических Party's parties.[4]Свободное время ещё можно было куда-то деть, а на работе-то что делать? Там ведь и выпить толком не дадут. Вот и читали. Степенная кпссцивилизация, составленная из многословных полостей и прорезиненных длиннот, сама по себе была конгруэнтна нудному лауреатскому роману. Так что чтение удерживало трепыхающиеся умы в общей вялотекущей жиже глохнущей жизни.
Понемногу Егор понял, что он не самый обычный читатель. Формально он проходил по низшему читательскому разряду чичиковского Петрушки, который, как говорят, увлекался чтением именно как процессом, в результате которого буквы складываются в слоги, слоги в слова, те в предложения, которые часто чёрт знает что и означают. Тема сочинения, его сюжетная колея, описываемые предметы и существа не занимали Егора. Напротив, слова, отделённые от предметов, знаки, отлетевшие от одервеневших тел и символы, отвязавшиеся от так называемой реальности, были для него аттракционом и радостью. Ему интересны были приключения имён, а не людей.
Имена не пахли, не толкались, не чавкали. Бытовое оборудование жизни — плотное нагромождение жести, плоти, жилистое, жиром пузырящееся, железное на вкус, полуразмороженное мясо дикой москвы, которым питались его силы, из которого он был сделан, вернее, его повседневная поверхность, обыденная оболочка, — тщательно отслаивалось Егором от глубокой высоты мироздания, где в ослепительной бездне играли бесплотные, беспилотные, беспутные слова, свободные, сочетались, разбегались и сливались в чудесные иногда узоры.