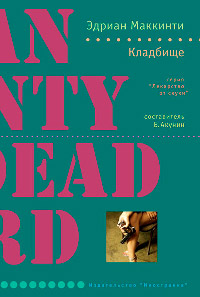Книга Морское кладбище - Аслак Нуре
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Джонни думал об Ингрид. С тех пор как он стал отцом, мечты о дочке всегда поддерживали его, когда приходилось совсем туго. Иной раз она была так близко, что Джонни мог погладить ее по длинным, до плеч, темным волосам. Она сидела рядом с ним среди узников в оранжевых робах на краю железной койки, болтала короткими ножками со ссадинами на коленках и грязными ногтями или хитро рассаживала кукол, прислонив к стене камеры, и играла с ними или наказывала. Была близко-близко, когда легкими детскими шагами шла к умывальнику почистить зубы розовой пастой, а потом исчезала, как исчезает мираж на длинной дороге через пустыню. Она была его кровь и плоть, с его чертами, смесь норвежского и чего-то чужого, он и сам не знал чего.
Страх вдохнуть воду у людей настолько силен, что превосходит страх остаться без кислорода.
В конце концов он сдался, уже не зная, вдохнул или выдохнул, дыхательные пути просто наполнились водой, а сам он тонул, беспомощный, как человек, оказавшийся взаперти, глубоко в недрах тонущего корабля. Инстинкт, не позволяющий дышать под водой, был тоже настолько силен, что он мог признаться в чем угодно, совершенно в чем угодно, лишь бы этого избежать.
Сопротивляться невозможно.
Кто в ответе за то, что он здесь мучается? Да, задание пошло наперекосяк, бывает, но что заказчики пальцем не пошевелили, этого простить нельзя. Если он когда-нибудь отыщет виновных, то не пожалеет оставшейся жизни, все сделает, чтобы с ними случилось то же самое, чтобы они лежали тут, на деревянной лавке в темном подвале, и чувствовали, как вода заливает дыхательные пути.
– Я… я…
Мужчины подняли его, усадили. Джонни набрал воздуху и в страхе и боли выкрикнул:
– Меня зовут Джон Омар Берг, раньше я был «морским охотником»[17] и разведчиком! Под… именем… Яхья Аль-Джабаль… я приехал сюда, чтобы примкнуть к Исламскому государству.
– Отлично. Отведи его обратно к курдам, – сказал американец.
Глава 4. Что это за писанина?
Сын вошел, когда Улав голышом стоял в раздевалке, поставив одну ногу на скамейку, и натирал «спенолом» внутреннюю поверхность бедра.
Тем утром, когда ему сообщили о смерти, он сразу понял, что случилось. В глубине души он всегда знал, что мать сведет счеты с жизнью. Знал все семьдесят пять лет. Ожидал этого. В детстве по ночам слышал, как она кричала. Надеялся, что это прекратится. Мать закончила свои дни в воде, в точности как отец.
До похорон осталось четыре дня, дел по горло. Необходимо держать все под контролем, сохранять статус-кво. Ведь именно Вера создала нынешний Редерхёуген и заложила основы САГА. Ее смерть может породить новые вопросы, ведущие вспять, в темные годы, что в свою очередь разверзнет бездну внутрисемейного разлада.
Нет. Он перевел дух.
Не спеши, не вали все в кучу, подумал Улав, проблемы вокруг смерти матери надо решать, как всегда, спокойно и систематично.
Он уполномочил Сири Греве, семейного адвоката, забрать у городского судьи[18] Верино завещание.
С минуты на минуту Сири вернется, и Улав со страхом думал: что же там, в завещании?
Он давно уже разговаривал с матерью разве что раз в год, в свой день рождения в конце июля, и она всегда плакала. Как считал Улав, его конфликт с матерью имел совершенно очевидную причину. Для него самым важным были интересы клана, мать же всегда ставила себя выше семьи.
Звук открывающейся за спиной двери резко вырвал его из размышлений. В запотевшем зеркале он узнал Сверре. Чем старше становился сын, тем больше походил на давние фотографии самого Улава, только вот в Сверре сквозило что-то бессильное и уклончивое, хотя по фотографиям этого не видно, как не видно, скажем, различий между настоящим «Ролексом» и хорошей копией.
– Ты? – сказал Улав, продолжая втирать крем. Раньше он думал, что уж где-где, а в армии сына наверняка научат уму-разуму, подготовят к задачам, какие ждут его в САГА. Но нет, сын отслужил срок за границей и вернулся домой бледный и дрожащий.
Сверре кивнул, его вроде как смутила отцовская нагота.
– Вчера вечером священница прислала мейлом проект своей речи. Я сделал распечатку.
Улав обернул бедра полотенцем, взял распечатку, начал читать: «Вера Линн покинула земную юдоль».
– Сверре? – сказал он, взмахнув распечаткой. – Что это за хреновина?
Сын не отрывал глаз от мокрого пола.
– «Оставила свой дорожный посох…» Что это за писанина? Ерунда какая-то, Сверре! Мама была писательницей. Язык – орудие ее труда. Да она бы скорее дала руку на отсечение, чем написала такое.
– Писательница. Ну и что? Последний раз ее печатали чуть не пять десятков лет назад. И это вот написал не я, а священница.
– Плевать я хотел на норвежских священниц, на всю эту шайку безбожных лесбиянок-социалисток. Надо было дать ей несколько тезисов про Веру, которые даже священница не могла бы истолковать превратно. Это никуда не годится. – Улав скомкал листки, швырнул в мусорную корзинку. – Попрошу Александру еще раз поговорить с этой священницей. Если она опять не справится, мы ее заменим. В крайнем случае пусть Александра сама напишет речь.
– Ты просил меня, а не Сашу, – хмуро сказал Сверре.
Улав брызнул одеколоном в ямку на шее.
– Датчане экспортируют свинину, французы – вино, Норвегия – нефть и лосося. Понимаешь, о чем я? Если б мы воевали и хотели ликвидировать лидера Талибана из дальнобойной снайперской винтовки, я бы, конечно, попросил тебя. Я очень ценю твою работу в Афганистане, Сверре.
Сын не ответил.
– У нас, у людей, разные природные задатки. Покойный Адам Смит назвал бы это разделением труда. Зря я сначала попросил тебя. – Улав улыбнулся. – Моя ошибка.
Сверре мрачно смотрел на отца. Улава бесконечно раздражало, что сын даже не пытается возражать. Сейчас он явно обижен, хотя Улав всего-навсего сказал правду. Но рано или поздно ему придется этому научиться.
С ранних лет Улав воспитывал Сверре как будущего наследника. Часто бросал перепуганного мальчонку в холодную воду, тот кричал и трепыхался, как рыбка. Лишь через год-другой он свыкся с суровым воспитанием, но Улав рассчитывал, что сын оценит «приучение к воде», когда станет старше. Увы, этого не произошло.
В молодости Улав всегда думал, что уйдет с поста директора САГА и председателя правления фонда в обычном пенсионном возрасте. Но время шло, а он все не находил ни подходящего времени, ни достойного преемника. И поднял пенсионный возраст до семидесяти, о чем и сообщил детям и коллегам. Однако во время пышного торжества по случаю