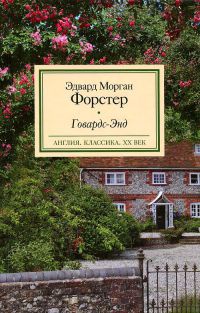Книга Буддист - Доди Беллами
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я годами мечтала посмотреть этот фильм, но не думала, что он окажется настолько красивым: меланхоличный, но торжественный саундтрек Майлза Дэвиса, роскошные черно-белые кадры, парни в черных костюмах (кому придет в голову надеть костюм, чтобы таскать картину?), грузчики в белых комбинезонах; я росла в пятидесятых, но не знала ни одного мужчины, который носил бы костюм, меня явно воспитывали среди белых комбинезонов. А Джей Дефео, такая беззаботная и молодая, то прохлаждалась на пожарной лестнице, то курила, сидя в пробоине в стене, то лежала на своей картине – интересно, она воспринимала картину как мертвое существо или живое? После переезда она продолжила работать над ней, попивая бренди и смоля «Голуаз», – так что думаю, она считала картину по-прежнему живой. Даже время в этом фильме кажется лениво-растянутым, как если бы мы все пробили дыры в своих стенах и болтали ногами в белых туфлях и жизнь была бы прекрасной и полной и длилась долго-долго.
* * *
15/10/10
Личные ритуалы
Еще одна короткая стычка с буддистом вчера и сегодня. (Сюзанна Стайн написала: «Думаю, нам стоит его понизить до строчной буквы», – и я принимаю ее предложение.) Наши отношения всё еще напоминают мертвое существо. Вспоминаю, как умирала моя мать: сразу после смерти ее шея начала чуть подрагивать, как будто под кожей сновали животные. Так же и с буддистом: подрагивания мускулов мертвого существа напоследок. Я устала писать о нем. Когда «Новый нарратив»[3] только набирал обороты и мы все хотели оказаться в текстах друг друга, я ныла Кевину: почему ты не пишешь обо мне? А Кевин говорил, что не пишет обо мне, потому что писательство – это экзорцизм, а он не хочет меня изгонять. Писать о буддисте было похоже на экзорцизм, но то время прошло – больше в моем блоге не будет никакой мыльной оперы, пора возвращаться к случайным проблескам опыта и наблюдения.
Всё произошедшее помогло мне осознать границы мышления и анализа, на которые натыкаешься, пытаясь оправиться от эмоциональных/душевных проблем. В какой-то момент я поняла, что рациональность не спасает. Я снова и снова думала обо всех его поступках, своих поступках, напоминала себе о его отрицательных качествах, подавляла воспоминания о заботе и удовольствии, которые я потеряла, но всё без толку. Поэтому я обратилась к ритуальному и иррациональному – и это мне очень помогло, это глубочайший опыт, которым, впрочем, я не могу поделиться, потому что в тайне есть какая-то сила, сгусток энергии. Расскажи я о своих обрядах, их магия бы рассеялась. Айлин Майлз рассказывала, как однажды перед публичными чтениями – всех деталей, увы, не помню – она прочитала отрывок, предназначенный для сцены, кому-то еще, так что когда пришло время выступать, нужный настрой исчез и получилось пресно. Когда я в процессе работы над текстом, мне не нравится рассказывать о нем: мне нужны моногамные отношения с текстом, нужно быть влюбленной в него и находиться с ним в одном пузыре. А когда я заканчиваю работу, я отправляю текст нескольким друзьям по имейлу – это письмо и есть настоящая публикация, публикация из сердца, позволяющая этим немногим попасть внутрь пузыря, пока текст свеж, а мое отношение к нему чисто и уязвимо. Затем следуют другие публикации, но ни одна не имеет того же значения, что этот первый обмен. С каждым следующим изданием от оригинала остается всё меньше: возможно, он окажется в периодике, затем – в каком-нибудь моем сборнике, а некоторые тексты попадут в антологию, полностью лишившись своего первоначального контекста.
Похожий трепет я испытываю, когда читаю новые тексты вслух перед сообществом местных писателей, и иногда предстоящие чтения становятся для меня своего рода дедлайном – я переняла эту привычку у Сидара Сайго. В прошлом марте я должна была участвовать в совместных чтениях с Крисом Мартином у Джейсона Морриса, но ужасно простудилась, а еще так вышло, что я купила кровать и диван. В четверг вечером старые кровать и диван оказались на улице в ожидании мусорщиков, а новую мебель должны были привезти лишь в субботу, так что на пару ночей матрас заменил нам с Кевином и диван, и кровать. Это было забавно: мы словно вернулись в студенческие времена, когда друзья, приходившие в гости, заваливались на кровать и слушали музыку. Мне становилось всё хуже, я чихала, выглядела ужасно, меня знобило, но я устроилась полулежа на этом матрасе и лихорадочно писала, готовясь к чтениям. Я закончила в пятницу к ужину, Кевин просмотрел текст и предложил несколько правок, и я быстро его отредактировала. Тем вечером в гостиной Джейсона в полуобморочном состоянии я облокотилась на стойку и, сморкаясь, прочитала текст перед аудиторией из примерно двадцати человек. Это было восхитительно, текст казался мне таким живым, что чуть ли не светился на странице. Я подавала текст с необычайной нежностью и волнением. Между мной и слушателями была такая связь, которую я обычно не чувствую во время чтений, как будто все они были моими близкими, моими людьми – даже те, кого я видела впервые. Что бы я ни делала с этим текстом в будущем – ничто не сравнится с его сопливой инициацией.
15/10/10
Поток гардений
Сижу с компьютером в кровати в новых черных бархатистых джинсах скинни, в которых я выгляжу вовсе не скинни, в них нет карманов, но когда я в этих джинсах стою, я всё время пытаюсь засунуть руки в карманы, как будто привычка к тому, что карманы есть, важнее их фактического отсутствия, это напоминает мне мою сегодняшнюю унизительную тоску по буддисту, и хотя буддиста для меня больше не существует, я убеждаю себя, что лучше так, чем вытеснять или отрицать свои чувства, но звучит не очень убедительно, вряд ли он тоскует обо мне, похоже, в расставаниях он знаток, словно для него это что-то естественное или он просто часто расстается, наверное, тоска – это не так плохо, это делает меня добрее к людям, добрее к нему, но на это я не решаюсь, еще на мне трикотажный топ небесно-голубого оттенка, единственная небесно-голубая вещь