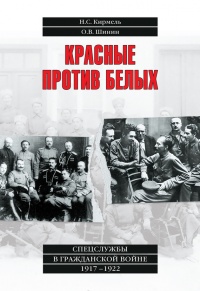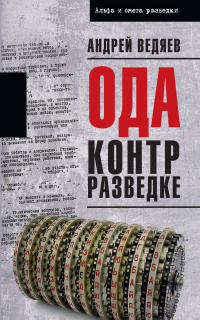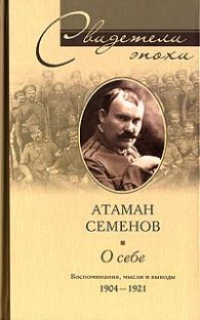Книга Красные и белые. На краю океана - Андрей Игнатьевич Алдан-Семенов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Адъютант не отвечая вышел.
— Дрянной человечишка! И представьте — большевик!
— Я тоже большевик.
— А я левый эсер. Но мы же не ведем себя как содержатели притонов.
Тухачевский не мог избавиться от чувства, что встретился с человеком, носящим какую-то личину. В ожидании автомобиля они разговаривали уже стоя, красивые, жизнерадостные мужчины: юный командарм, у которого, как думалось ему, в запасе целая вечность, и сорокалетний главком, которому оставалось лишь несколько дней жизни.
— Белочехи из Сызрани могут стремительным рейдом захватить Симбирск, если мы не опередим их,— сказал Тухачевский.
— Белочехи?.. Это лишь макет противника,— улыбнулся Муравьев.
— Белочехи сильны. Мятежникам надо противопоставлять силу...
— Вот она, молодость! То ей море по колено, то лужи страшится. А что такое мятежники? Молодые люди всегда мятежники, они всегда надеются достичь своих целей.
— В политике мало одних надежд.
— А вот философия не украшает полководцев. Стрелять нужно не размышляя. Думать надо только об отечестве, ведь все мы — и живые и мертвые — дети России. — Муравьев посмотрел на часы.
— Автомобиль подан,— доложил адъютант Чудошвили.
— Не надо, мы пройдем, пешком,— вдруг объявил Муравьев. Он все делал внезапно и вдруг, его противоречивые поступки часто ставили в тупик подчиненных.
Полк, уходивший на фронт, уже больше часа стоял на привокзальной площади. Муравьев браво прошагал вдоль строя,
звучно поздоровался и, прижав к сердцу пухлые кулаки, начал напутственную речь:
— Бойцы революции! Весь мир трепещет от топота ваших шагов. С этой площади вы уходите прямо на вечные страницы всемирной истории, алые знамена осеняют вас, отблески славы вашей не погаснут в веках! Победоносные орлы, вы и я, ваш полководец, спасем Россию от внешних, от внутренних врагов ее. Земля, заводы — все добро хищников станет нашим добром. У каждого бойца зазвенят червонцы в карманах, каждому раненому я выдам награду чистым золотом. Я не кидаю своих слов на ветер — слова мои обеспечены всем достоянием республики. В ста шагах отсюда, в кладовых банка, хранится золотой запас России, и все герои революции получат свою долю...
Муравьев вскинул над головой кулак, ожидая овации.
— Обувки нетути, босиком много ли навоюешь...—раздался робкий голосок.
Мастер фразы, Муравьев был еще и артистом мгновения. Он присел на мостовую, сдернул хромовые сапоги, протянул красноармейцу:
— Возьми, орел! Твой главком походит в лаптях до победы...
Восторженными криками ответили бойцы на неожиданную выходку Муравьева. Он жё, босой, с растрепанными волосами, с правой рукой, прижатой к сердцу, смеялся; лицо его наливалось тугим румянцем.
Муравьев и Тухачевский вернулись в штаб. По дороге главком все вспоминал свое выступление.
— С солдатами разговаривай по-суворовски, умей их взбодрить, умей веселить: «Пуля — дура, штык — молодец! Заманивай врагов, солдатушки-братушки, заманивай!» Бот и все,,что нужно солдату,— поучал главком Тухачевского.
В кабинет вошел адъютант:
— Политком полка по срочному делу.
Вошел бледный, растерянный комиссар полка, в котором только что выступал Муравьев.
— Какой дьявол за тобой гнался? — спросил главком.
— Красноармейцы отказываются идти на фронт. Устроили новый митинг, требуют жалованья за три месяца вперед и золотом,— заикаясь от волнения, доложил комиссар.
— Ах ты, провокатор! Осмелился позорить моих орлов, продажная душа! Адъютант, расстрелять эту шкуру!
Адъютант выдернул наган, но выстрела не последовало, произошла осечка. Он вновь вскинул наган, Тухачевский вышиб оружие из его руки.
— Дважды не расстреливают, товарищ главком,— сказал он, закрывая собой комиссара.
— Отставить! — скомандовал Муравьев. — Радуйся, пес! Счастливая баба тебя родила...
Вечером Муравьев и Тухачевский отправились в бывшее дворянское собрание, теперь Дом народных встреч.
Колонный зал был переполнен. Царские офицеры всех воинских званий пришли в партикулярном платье. Тухачевский затерялся в толпе: хотелось со стороны понаблюдать, как Муравьев станет разговаривать с офицерами.
Главком четким шагом прошелся по сцене, остановился у рампы.
— Граждане офицеры! Патриоты отечества! Доколе будем бесстрастно взирать на Россию нашу, гибнущую под ударами иностранных и внутренних врагов? Доколе нам терпеть позор и обиды от своих же военнопленных? Или уже привыкли наследники Суворова и Кутузова жить под немцами, обниматься с преступниками, прикрывающимися идеями Великой французской революции?
Опять политическая двусмысленность сквозила в словах Муравьева: он намекал на то, что опаснейшие враги России — большевики,— и Тухачевский подумал: «Главком ведет какую-то хитрую игру, его демагогия имеет подспудную цель. Он храбро нахален, а нахальство—самовлюбленность, не знающая предела».
— Что мешает вам, офицеры, поступать на службу победоносному народу? Оскорбленное честолюбие? Утраченные привилегии? Недоверие простых людей к золотопогонникам? Если только это, отбросьте сомнения! Моим армиям нужен ваш опыт, я использую вас для возрождения России. — Муравьев ткнул кулаком в сторону рыжеусого человека. — Вот вы, кто вы?
— Капитан инженерных войск. — Рыжеусый убрал с колен соломенную шляпу.
— Почему отсиживаетесь в тылу?
— Нашему брату не доверяют...
— Я доверяю, и этого достаточно! — Муравьев спрыгнул в зал, выхватил из рук капитана шляпу, швырнул в угол. — Срам какой — офицер в шляпе! Встать! — заорал он, пунцовея.— Встать, когда говорит главнокомандующий!
Офицеры поспешно поднялись.
— Приказываю вернуться в армию! — кричал Муравьев.
— Приказ есть приказ,— покорно ответили из зала.
— Мобилизую всех для защиты отечества!
— Если так, то повинуемся...
Главком и командарм возвращались из Дома народных встреч по улице, залитой лунным светом. С Волги веяло свежестью, из садов — терпким запахом мяты.
— Здорово я их раскатал! А как бы вы поступили на моем месте? — спросил, смеясь, Муравьев.
— Сделал бы то же самое, только без ругани. Когда прикажете выехать в Первую армию?
— Чем скорее, тем лучше.
Как это часто случается с молодыми людьми, председатель Казанского губкома партии Шейнкман и командарм Тухачевский сразу нашли общий' язык. Их объединяли не только идеи, но и близкие духовные интересы. Тухачевский любил музыку, Шейнкман — поэзию; командарм преклонялся перед именем Моцарта, председатель губкома даже своего первенца назвал Эмилем в честь поэта Верхарна.
Шейнкману шел двадцать девятый год, но он давно жил бурной, опасной жизнью революционера. Свою