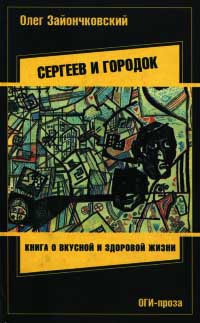Книга Идущий от солнца - Филимон Сергеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Дай мне твои губы и положи мои руки на твои бедра, – с нежностью сказал он. – Я хочу чувствовать скольжение не только твоего обалденного тела, но и души. Пусть наши чувства, как два крыла одной радости, соединятся вместе, пусть не сейчас. а на другой планете, среди райских цветов, пахнущих багульником, розами лесными. Ты знаешь, радость моя, я когда-то тоже мечтал стать актером и учил удивительные монологи, от которых иногда останавливалось сердце, и кровь приливала к лицу до такой степени, что кружилась голова. Я терял сознание… Я настолько жил теми мыслями, теми образами, которыми жили мои герои, что мир казался совсем другим. Это было удивительное время! Моему сердцу и разуму казалось, что пространство и время не имеют границ, что любовь моя бесконечна, а душа вмещает не только мысли и чувства всех людей, с которыми столкнула судьба, но и Вселенную, весь мир, который создал меня. Это было время надежд. безумной веры в исповедальный русский театр, его солнечную, неразвращенную, непродажную духовность. Я учился тогда в Школе-студии МХАТ на актера театра и кино и был совершенно нищим пацаном без угла и крыши над головой, потому что приехал из деревни, которая находится рядом с поселком твоей матери. Если б я знал тогда, что в этом поселке растет такой необыкновенный цветок, я бы бросил школу-студию еще раньше. и еще раньше соединил бы свою расхристанную душу с космосом.
– Цветок – это я? – растерянно спросила Вера, немного оторопев и стыдливо пряча свое разрумяненное тело от его пристального взгляда.
– Да. ты мой запоздалый цветок, которого мне не хватало всю жизнь. Ты мое райское недоразумение, которому было еще страшней, еще кошмарнее добиваться своего признания в жизни. Я это хорошо понимаю, потому что у нас на курсе в Школе-студии учились девчонки не только внешне красивые, но и с немалой внутренней красотой, и чем сложнее были их души, тем сложнее и непредсказуемей становилась их жизнь. В конце концов, она их ломала, шлифовала, бросая в самые рабские условия существования. Либо они разменивали или разбрасывали себя среди сволочных мужиков, становясь их подстилкой ради карьеры, престижа, либо бросали обучение и выходили замуж. Это было время бесстрашных амбиций и творческих взлетов совсем молодых театров. Потребность больших перемен в России чувствовалась повсюду… И особенно там, где содержание подменялось разукрашенной кичливой формой. Как раз в это время пресыщенной советской власти становилось все сложнее и сложнее удерживать свою политику. Потому что плохое правление любой фабрикой или заводом моментально сказывалось на благосостоянии тружеников всего предприятия, и люди разбегались по другим кормушкам. Благо, в России есть, куда бежать. Советская власть с ее мощной военной дисциплиной разваливалась на глазах. В ее кадрах появились демагоги, которых начинало тошнить от одной идеи духовного равенства и братства – идеи, на которой держится все православие и великая мудрость взаимного созидания. Появились люди обособленного капитала: продажных душ и компьютерных сердец – себе на уме «бурундуки» и «плюшкины». Они не захотели носить одну и ту же кепку, как это делали Владимир Ульянов и Юрий Лужков, или одни и те же сапоги, в которых всю жизнь проходил Иосиф Джугашвили. Они власть стали понимать не как служение тем людям, которые выдвинули их, а как неограниченную возможность алчной фантазии и беспредельного эгоизма и диктата. Они стали безумцами, пожирающими ту силу, которая пустила их во власть. Отсюда возник раскол между людьми и правящей элитой и страшное расчленение себе подобных на очень богатых и очень бедных. Этот раскол подобен расщеплению радиоактивного урана, который работает только на разрушение и в мирных целях не пригоден. Человек неограниченной власти и присвоивший то, что иногда трудно присвоить всей солнечной системе, теряет связь с себе подобными людьми и становится вне естественного развития человеческой природы. Этот аномально больной безумец не только опасен для окружающих его людей, но и для космоса, потому что он начинает переделывать космос на свой «плюшкинский» лад. Ты видела, Вера, какой самурайский штык на автомате спецназовца и какая навороченная оптика на стволе пацана?!
– Конечно, видела…
– И всю эту дьявольскую технику он использует против нас с тобой – людей очень далеких от политики и ее шоу-показухи. Иначе не скажешь.
– Тебе лучше, Ваня?
– Ты мое ясное солнышко. Только свою драгоценную бабушку я люблю так же искренне и бескорыстно, как тебя.
Я не знаю, что с нами будет дальше, не знаю, сможем ли мы улететь на другую планету..
– А почему не сможем?
– У меня какое-то недоброе предчувствие. Внезапное появление кристалла на дне родника и невероятные сны, связанные с открытиями Семена Дежнёва, растревожили и подкосили мою душу… Зря мы оставили Майклу провизию. и автомат тоже зря. Они наверняка ищут нас. От этих господ у меня страшная головная боль. Верушка, дай мне руку, – Иван взял разнеженную ладонь своей ненаглядной невесты и долго держал в своей почти безжизненной руке. – Милая моя, твоя любовь потрясла меня до глубины души. Я счастлив тем, что ты получила бескорыстную взаимность от солнца и брусничного суземья. В моей спальной комнате под зеркалом на комоде лежат сердечные письма, которые я писал своей драгоценной бабушке. студенческие письма. Им более двадцати лет… Если со мной что случится, возьми их на другую планету. пусть инопланетяне знают, что такое земная любовь.
– О чем они?
– О любви, Вера. О любви, которая еще живет в России, и дай Бог ей вечности.
На этот раз «Айвазовский» принес двадцатилитровую канистру родниковой воды и, увидев обнаженную Веру, выронил канистру из рук.
– Простите меня. Может, я слишком поторопился? – растерянно сказал он, потрясенный увиденным. – Вы Богиня, малышка. Жаль, что я всего-навсего однофамилец великого художника. Я бы нарисовал вас на фоне таежной реки, и мой «Девятый вал» был бы очень похож на ваши рельефные, почти вулканические груди.
– Ты бы прославился, Федор, потому что в этих ненасытных и по-юношески вздернутых холмиках страданий и дерзкого безумия больше, чем в картине Айвазовского «Девятый вал», – неожиданно подметил Иван, и Вера вдруг почувствовала, что он абсолютно не ревнует ее к своему другу, у которого появился в глазах какой-то сладострастный и очень колдовской блеск.
– Ваша вода просто необходима сейчас, – прикрывая груди, так же растерянно ответила она. – По-моему, у Ивана нервное истощение. У вас валерьяновые капли есть?
– Капель нет, а валерьяновые корни лежат на комоде…
– Там же, где письма моей бабушки, – с какой-то болезненной улыбкой сказал Иван. – Спрячь письма в свою сумку и пойди растопи русскую печь. А сейчас надень мою одежду, которая висит в предбаннике. По-моему, «Айвазовский» обалдел от тебя. Как бы он тротиловые бруски с хозяйственным мылом не перепутал.
– Иван Петрович, не надо ля-ля. Или ты уже выздоравливаешь?
– Может быть, только голова почему-то кружится и страшно хочется спать. Иди, Вера, в дом. Как только услышишь взрывы, чай заваривай да стол накрывай. Ну как, Федор Понтилеймонович, отвальную отмечать будем?!