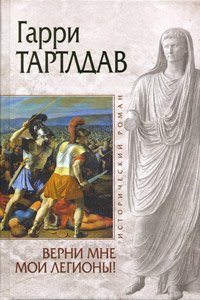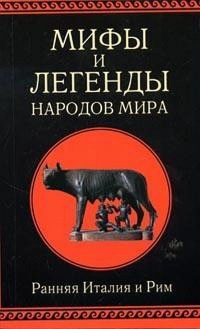Фортуна всемогущая! Зачем ты мне,Довольному своим уделом, лживоюУлыбкой улыбнулась, вознесла меня?Чтоб страх узнал я? Чтобы с высоты упал?Уж лучше жить мне на скалистой Корсике,Как прежде, вдалеке от глаз завистливых,Где сам себе принадлежал мой вольный дух.Всегда досуг имел я для излюбленныхЗанятий. Наблюдать мне было радостноКрасу небес: природа-мать, искусница,Великие творения создавшая,Не создала величественней зрелища.Я наблюдал, как в небе Солнце движется,И Феба в окруженье звезд блуждающих,Как в обращенье неба ночь сменяет день,Как беспределен свод эфира блещущий.Коль он стареет – к хаосу слепому вновьВернется мир; последний день придет тогда,И небо, рухнув, погребет весь род людской,Забывший благочестье, – чтобы вновь земляРодить могла бы племя совершенное,Как в юности, когда Сатурн царил над ней…В пороках, накопившихся за долгий срок,Мы тонем, и жестокий век нас всех гнетет,Когда злодейство и нечестье царствуютИ одержимы все постыдной похотью,И к наслажденьям страсть рукою алчноюГребет богатства, чтоб пустить их по ветру.
Как бы «Октавия» ни была несовершенна с формальной точки зрения, мы полагаем, что эта драма достойна цитирования, поскольку является не просто подражанием греческим образцам, хотя многим обязана греческой драматургии. Уникальность трагедии в ее теме; нам остается лишь пожелать, чтобы какой-нибудь современный гений взял бы эту же тему, чтобы на ее основе сочинить действительно великую трагедию. Позже мы вновь обратимся к «Октавии» ради изображенных в ней картин нравов при дворе Нерона.
Приписываемые Сенеке драмы не одиноки в обращении к напыщенной риторике и мрачным ужасам. Риторика и ужасы составляют форму и содержание поэзии римского Серебряного века; они были облачены в эпическую форму племянником Сенеки Луканом в его грандиозной поэме о гражданской войне, «Фарсалии». Мы не найдем здесь прелестных описаний эротических сцен; автор сознательно избегает подобных ситуаций, даже когда для них представляется возможность. Лукан тратит всю свою энергию на изображение ужасов войны с обстоятельностью и живописностью, которая временами становится совершенно отталкивающей. Вот, например, несколько моментов из морского сражения под Марселем (iii, 635 и далее):
Крючьями быстро в корму вонзилась железная лапа,
Был ей зацеплен Ликид: он сразу нырнул бы в пучину,Но помешали друзья, удержав за торчавшие ноги.Рвется тут надвое он: не тихо кровь заструилась,Но из разодранных жил забила горячим фонтаном.Тело жививший поток, по членам различным бежавший,Перехватила вода. Никогда столь широкой дорогойНе изливалася жизнь: на нижней конечности телаСмерть охватила давно бескровные ноги героя;Там же, где печень лежит, где легкие дышат, – надолгоГибель препону нашла, и смерть едва овладелаПосле упорной борьбы второй половиною тела…… И смерти пример небывалыйВзорам явился в тот миг, когда, носами своимиВ море столкнувшись, суда пловца молодого сдавили.Юноши ребра и грудь от такого удара рассеклись,И помешать не могли в осколки разбитые костиЗвону брони на бортах: разодрано чрево, из горлаС кровью и желчью ползли желудка и легких лохмотья…Выпустил меткий Лигдам снаряд из пращи балеарской;Твердым свинцом он пробил виски молодому Тиррену,Ведшему яростный бой на высоком носу корабельном.Мышцы снаряд разорвал и с кровью пролившейся очиВыпали вдруг из глазниц: стоит боец, пораженныйСумраком, вставшим вокруг, и смерным считает сей сумрак[97].
Талант Лукана к мрачным описаниям не ограничивается батальными сценами. Его воображение глубоко погружается в преступления и ужасы в сцене появления фессалийской колдуньи Эрихто (vi, 515 и далее):