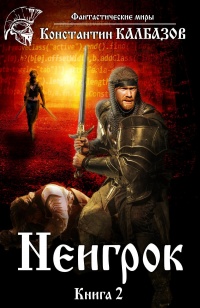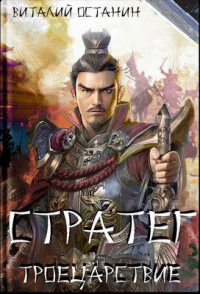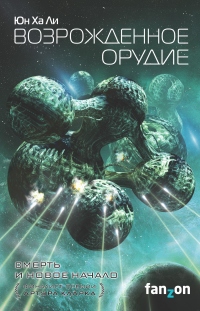Книга Правило правой руки (сборник) - Сергей Булыга
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как только люди в переулки схлынули, так Миколайка на просторе разбежался, крыльями – мах! мах! – и полетел!
Остолбенел народ, шапки снял. Ну, ещё бы! Такое знамение! Один говорит:
– К недороду.
Другой:
– К урожаю.
А третий, пятый да десятый… Ну, дело ясное – привычное брожение умов!
А Миколайка всё выше и выше летит, ничего не боится. А что? Полведра холодильного средства извёл, так теперь хоть на солнце садись!
А Балазей среди толпы стоит, на товарища смотрит… И стыдно ему! Эх, сколько он над ним смеялся, сколько потешался, думает, а сам он на проверку кто? Дурак дураком!
И вдруг слышит:
– Цыть! Стоять! И не дышать! Глаза направо!
И Балазея как околдовали! И словно не было тех долгих вольных лет, и никогда он не бродил по белу свету, а всё время в казарме сидел! Стоит Балазей и не дышит, направо косит. Там, справа, солдаты по небу стреляют, а штабс-капитан народу объясняет:
– Нельзя, чтобы в небо летали, запрет. Вам же только позволь, никого на земле не останется. А кто тогда будет налоги платить, государству служить? Разойдись!
Не уходят. Стоят и молчат.
А солдатам никак Миколайку не сбить, и он всё выше, выше в небо забирается. Вот штабс-капитан и говорит:
– Сейчас мы этого злодея запросто подстрелим. Есть у нас для этого дела специально натасканный бравый солдат, он за меткую пулю в фельдфебели выйдет. Эй, Балазей!
И – сам не свой, как очумелый Балазей. Словно во сне! Царское ружьё с плеча срывает и преданно ждёт. Штабс-капитан командует:
– Ступи! Фитиль с курка! Фитиль на место! Пулю вбей! Порох на полку!
И Балазей как неживой команды справно, дельно, ловко выполняет и душистый приклад к плечу приставляет. Руки белые, пальцы дрожат, оторваться желают.
– Пали!
Закрыл глаза, повёл стволом куда подалее и стрельнул!
Открыл…
Ан завертелся уже Миколайка, в летнем небе осенним листом закружился…
Тяжко охнул народ, зароптал. А Балазей ружьё в песок отбросил, в небо смотрит и слёз не стыдится. Штабс-капитан:
– А подать ему водки! Фельдфебелю! Ха!
Все молчат. Только вдруг слышно в толпе:
– Улетит!.. Вот улетел бы!
А глянули – точно! Миколайка вновь крыльями машет, и хоть, конечно, всё ниже и ниже летит, но, видно, что за город вытянет. А там за огороды, за поле, за речку…
Штабс-капитан:
– Взять! За мной! – и первым побежал.
И солдаты за ним – полурота. А Балазей…
И он туда же, за ними. Выбежали в поле – там бабы жито жали – закричали:
– Куда он?!
– А туда, – говорят, – в осоку залетел.
Там возле речки болото. Камыш, осока – высоченные и выше. Гиблое место, тут разве найти? Но они по-военному, цепью пошли.
Балазея поставили с краю, по берегу речки идти. И вот он идёт и думает: эх, сейчас бы неловко ступить да не выступить! Эх, какая красота сейчас бы утопиться!..
И вдруг видит – лежит в грязи Миколайка. Щёки белые, губы красные – потому как в крови, – грудь навылет пробита. И крылья в мелкий щеп изломаны, изодраны. Тонет в болоте, моргает, молчит.
Стоит Балазей, подойти не решается. Миколайка к нему повернулся, едва улыбнулся и шепчет:
– А крылья хорошие… были. И мазь… холодит. Лепота наверху, красота, – потом прислушался, спросил: – Кто это ходит?
– Солдаты, – отвечает Балазей, а сам уже не видит ничего, потому что всё плывёт перед глазами.
Миколайка губы облизал и говорит:
– Ох, сердце горит! Ох, не могу терпеть! Остуди меня в речке.
Балазей, глаза утерши, подошёл.
– Прости, – чуть слышно говорит.
– За что? Я сам же попросил. Ну, что стоишь? Давай!
И зажмурил глаза Миколайка. Взял Балазей товарища за плечи, толкнул – и тот пузырями на дно. Вместе с крыльями. И стало тихо. Стоит Балазей, в речку смотрит и думает…
Нет! Вдруг он слышит – солдаты подходят! Всё ближе и ближе. У Балазея сразу слёзы высохли, ум прояснился. Закричал:
– Держи его! Держи! – и как паш-шёл, паш-шёл бежать да камышом трещать!
Бежал, бежал, споткнулся и упал, чуть сам не утонул, а всё кричит!..
Набежали солдаты, и с ними штабс-капитан, спрашивают:
– Что за шум?
– Улетел! – говорит Балазей. – Вот так вот, низенько, по-над самой речкой улетел!
Штабс-капитан его р-раз! – по зубам.
– Врёшь! – кричит. – Не было!
– Было!
Стали его сапогами топтать и прикладами бить, ну а он всё равно:
– Улетел! Улетел!
Били его, не жалели, а после устали, связали и повели на скорый суд. Полем шли – он молчал, а как вышли на площадь, опять заорал:
– Не убили его! Улетел! Он такую машину придумал! Он солнце потрогать хотел!
А его опять прикладами! А он опять за своё! Он и на суде от этого не отступился.
– Миколайка, – кричал, – не колдун! Он машину придумал, чтобы людям летать научиться! Всем, без разбору! А всё оттого, что он голову не для шапки имел!
Заткнули рот. Сказали:
– И ты, Балазей, тоже голову не для шапки, а для плахи, для топора имеешь.
И так оно и вышло, голуби мои. Тем Балазея и помянем.
Вы думаете, что если я лысый, то, значит, умный или старый? Нет. Это я просто служил на Ыртак-Ю. Про такое не слышали? Вам повезло. А я там восемь лет отбарабанил. Это места далёкие, всеми забытые. Там девять месяцев в году зима, а остальные весна, осень и между ними три дня лёта. Зимой там хорошо: мороз, пурга, заносы снежные. То есть спокойно. А только снег сойдёт…
И эта гора Ыртак-Ю оживает. Стоят под ясным синим небом скалы чёрные, все в паутине зелёной, и отовсюду: ширк! ширк! Чуть зазеваешься – и этот ширк, то есть паук, из паутины выскочит… И отпоют тебя, болезного, зашьют в тесный мешок и бросят паукам же на съедение. А те пауки здоровенные были – вот такие, с кулак. И ещё глазастые, пушистые. Мы их котятами звали. Иной котёнок, если он поматерее, мог запросто шинель прокусить. А то и голенище. И тех поганых пауков было на той горе не счесть. Потому что если «Ыртак-Ю» с туземного на наш язык перевести, то получается «Гора Голодных Пауков».
Да, кстати, в тех гиблых местах и туземцы живут, очень дикий народ, сыроядцы. Сыроядцы по тундре кочуют, оленей пасут, но к той горе они никогда и близко не подходят. Они о ней так говорят: