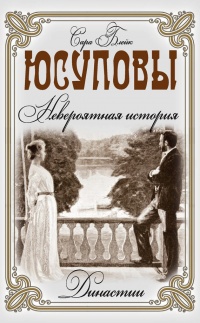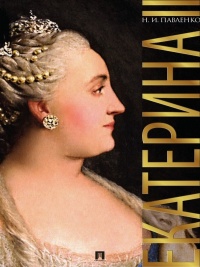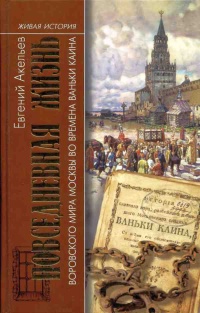Книга Окаянный престол - Михаил Крупин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Поживёшь немножко во Владимире, там, говорят, красиво, хорошо, — поначалу бодро говорил властитель. — Пока я тут гостей спроважу... С Мнишковной я договорюсь... Думаю, у неё самой тут быстро фавориты заведутся: бабёнка даром что страшная — дотошная! Договоримся с ней тем более... А нет — так в монастырь, как Иоанны с супругами делывали! Упеку мгновенно — за бесплод.
Замирала Ксения:
— А коли понесёт?
— Аль в Аптекарском приказе у меня при порошках умельцев нет?.. Да от такой большой любови, как у нас с ней, едва ли плоды зачинаются. И ревновать не смей, не думай, кумушка драгая, гусынюшка...
Ксения, не подымая лица, целовала в шею своего царя, вжимаясь между его скулой и ключицей. Но невольно старалась уже привыкать не к тому, что целовала и видела: не к нежно опушённой тёмной коже, известной — и закрытым глазам — горенке, а к далёкой пока, но встающей перед глазами закрытыми, пустой, известью заглушённой стене — началу и обрыву золотой обители. Там, в глубине, будут их кельи — бедной ослабевшей русской и новейшей злобной польки...
— Не надо уж с ней так...
— Да не дойдёт до лавры... Говорю, сам ей кого-нибудь подсуну — летом так и так меня не будет на Москве. А возвернусь — договоримся... Всякое ещё придумается...
Царь не лукавил, ободряясь. Было им тошно, боязно, но и легко: как будто вместе чувствовали, что страданием ещё не начавшегося их расставания уже омыто что-то, и дано, и будет отведён теперь какой-то их несчастный грех.
Сумрачье разлучья, нежно извергаясь из трёх отворенных сундучат, новых иконных незамкнутых складней... развевало уже беспокойный дух мыслей царя духом умным, тревожным и важным.
— Знай, — заговорил он, — если я скоро уйду, то есть много скорее отца твоего...
— Так скоро не надо. Царевна стала гладить ему в развороте ткани грудь — место, откуда будто на воздух легли, как два расходящихся у основания ивьих ствола, его ключицы. — Царствуй хорошо... Тогда и так простится...
— Это уж как Вседержитель... А валандаться, беречься я не буду, — вскрикнул, как ужаленный, монарх вдруг. — Нет уж, лучше поскорее, только бы знать точно, уверену быть, что искуплю...
Ксения видела — он отчасти перед ней наигрывает — и уже хотела на прощание предупредить: на иереступе одной безымянной лесенки она нечаянно слыхала перемолвку трёх — со свету не разобрать — не то жильцов, не то подьячих. Один из них проворно возводил хулу на Дмитрия, прельщая товарищей заговором. При перечислении уже примкнувших прозвучали титулы виднейших московлян... Ксения, дав знак служкам онеметь, сама беззвучно подвигалась к ледяному выступу стены, из-под которого бьют тени повстанцев.
Сама царевна шла бесшумно, но всё страшнее громыхало за вянущей ферязью сердце. И мятежники, как она и боялась, тоже услышали его. Они насторожились и примолкли. Постельница Люська, впустив ногти в ладонь госпожи, всхлипнула от ужаса. Башня будто лопнула — незримые мятежники бросились без слов, гремя, — наверное, летя через витки ступенек, ударяясь, — вниз. Бежали как будто проваливались, и башенное эхо, жадно, трубно дышащее вверх, сразу утопавшее в синем оконце, смешалось на зубчатой грани с всполохом воробьиных и чьих-то ещё крыл...
Ксения удержалась даже при прощании, не сказала об услышанном царю. Злясь на него и на свою судьбу, потом, уже в дрожащей колымажке, Ксения жалела о несделанном. Но, раз пожалев, опять она жалела и уже любила самозванца, тогда ей снова чудилось, что смолчала о зреющем мятеже она правильно. Когда же убеждалась, что поступила только правильно, снова ненавидела его.
«Господи, — сказала она наконец, — Бог Отец и Бог Сын, вы видите, я не могу... Пожалуйста!»
От тычка дороги сердце царевне изнутри омыло сладко и тоскливо. Нет уже сомнений — новая, ещё одна, жизнь. Есть уже кто-то здесь — чуть ощутимый, жутко сжатый, но уже растущий, расходящийся — благодаря неумной ей, сквозь полоумную её...
«Вот и пусть, — рассуждала Ксения, никак не умея устроиться бережнее на летучих перепончатых подушках, — вот уже и ничего... Приснодевная Царица-Богородица. Пусть уж он, дитёныш вздоха нашего, лучшее только переймёт от смешной матери, у отца же его худа нет».
Андрей Корела, хоть усиленно подтаскиваемый Дмитрием в свой ближний круг, так и не свёл там дружбы ни с кем, кроме царя и меньшого Скопина, и вечерами съезжал с высоты в привратные кремлёвские лощинки, где делил свою генеральскую трапезу со стрелецкими сотниками, аркебузирами и чудовскими братьями. Но и тут донец распробован не был своим.
— Вот в Европе — так воля, — заговорил как-то перед казаком Жак Маржарет, здешний охранный капитан. — Так человек вольным и родится, благороден и самостоятелен.
— А я, по-твоему, тут что же... не вольный? — глянул сторожко Андрей.
— Посему-то ты и полюбился мне, — отвечал Жак. — Ты хотя и московлян, да не русак, а казак... Но всё одно — это не то. Европска воля суть воленье микрокосма, сиречь — одного в нагорном замке. Казачество же примера таковой свободы привести не возможет. Корпорация, паря, сильна, зависимость от атамана, от куреня... — та же опять странная стадность.
— А твой в замке ми... мизер-космач — что? Ни от кого уж не зависит? — взревновал казак. — Только и глядит, поди, как бы не слопали. Огрызается на все края, вольно, чай, ни минутки не вздохнёт... А наш — конопляник в зубы и думу за облака! Нет, ты мою станицу с вашим пуганым куренём, с рыбацкими всякими там карподрациями не равняй! Раз говорю, — значит, наши зимовья вольнее ваших замков на горах!
— Да ладно! — не верил Маржарет. — Это свобода — пропадать в степи? Вот сруб каменный, ты у камина! Выпил, поплясал, никто тебе слова не скажет — законность окрест — хорошо!
— Да что хорошего? — не понимал и Корела. — На одном месте поплясал, говорит, и хорошо. Ты от одного края степи до другого в один коний мах скни — вот свобода-то!
— Подожди, а зачем, зачем мне на другой конец? — не сдавался капитан. — Мне и здесь, да с девчоночкой-мабишью[69], вольно и тепленько!
Атаман и Маржарет теперь глядели друг на друга и молчали: как раз обоим пришло в голову, что не могут они тут договориться, так как самое свободу понимают розно: капитану важна воля приплясывания на твёрдом девчоночьем месте, а Кореле — сквозь все нежные пропасти и чистые напасти разнестись во все концы земной степи... Ну и чья из свобод их походила более на рабство?.. Узость обязательной удачи Маржарета или необъятность целей и препятствий на пути Корелы означала пущую тюрьму?
Корелу не любили: он ходил, как по куреню, по Кремлю, без спроса открывал все двери — и чугунные, и деревянные, и золотые. Наконец все вздохнули свободнее: сел где-то в шахматы играть. Кажется, Вселенскому с лёгкостью пожертвовал двух офицеров и променял королеву на двух белых коней, но когда только два вороных его да две ладьи остались подле короля, вдруг упёрся и, взвороша горстью сыро переплетённые над доской кудри, начал даже выигрывать. Кони его вдруг перемахнули пехоту Вселенского, ладьи, турнув слонов, чуть сами не врезались в берег объёмной пустыни — чуждой запруде игры, или, быть может, приходящейся отчизной своим облёкшимся в кость и густой сурик защитникам.