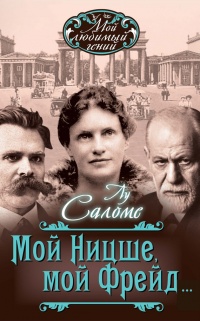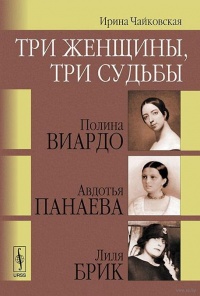Книга Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта. Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская, Лиля Брик - Игорь Талалаевский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Блестящая его лирика тех лет мне казалась потом стихийным цветением в пустоте. Опыты его — творческий, мистический и жизненный мне оставались чуждыми и, чужды, не научили меня ничему решительно.
В ту осень, накануне грозного 1905 г., как во все катастрофические эпохи, московская жизнь завилась блистательным вихрем. Развращающее влияние популяризованного декадентства, буйно прорвавшего все плотины и хлынувшего в толпу, закружилось смерчами во всех эстетизирующих кругах и докатилось даже до гимназических застенков. И, конечно, законодателем, хотя и невольно, быть может, всех этих круживших голову дамам, их мужьям, старцам, девам и юношам неистовств — был Бальмонт.
Его солнце стояло тогда в зените. Французов, профильтровавшихся в русский символизм, как-то просмотрели или просто не вчитались в них. Брюсов долго стоял одиноко, и такого рода популярность презирал и ненавидел.
А тут вдруг, как гонг, ударил свой отечественный лозунг: «Будем как солнце!». Станем безудержным «воплощением внезапной мечты», насладимся всеми утехами «Зачарованного грота».
А «внезапность мечты» людей пресыщенных, по всем статьям быта благополучных, в большинстве случаев совершеннейших бездельников, была иногда весьма многообразна. Это желание непременно вылезти из кожи и «сладко падать с высоты», рожденное в тупиках мысли и чувства, в тупиках же и иссякало, но в общую атмосферу жизни вливало явно разлагающую струю.
Где-то уже явно слышались грозные гулы грядущего 1905 года, а над Москвой, утопающей в переутонченных причудах, в вине, в цветах, в экзотической музыке, стоял столбом мертвенно зеленый масляничный угар.
Подбор вошедших в моду литературных произведений и бешеный спрос на них являлись тоже знамением времени. Возрос небывалый интерес к Оскару Уайльду, раскупили вмиг «De profundis», «Балладу Редингской тюрьмы», «Портрет Дориана Грея» и «Саломею», последние два очень дорогие роскошные издания «Грифа». Потребовалось буквально рынком новое издание «Цветов зла» и все до последней строчки Бодлера. «Homo sapiens» в издании «Скорпиона» стало новой моральной проповедью. Интерес к личной жизни новых писателей набухал пикантными сплетнями, выдумками, россказнями небылиц.
Маленькие газетные церберы — прихвостни старых толстых журналов и маститых авторов — вопили «караул» с эстрады Художественного кружка, поносили в лицо непристойными словами докладчиков враждебного лагеря. Очередные вторичные рефераты редко кончались без скандалов.
Но ничего не помогало. Унылое платоническое народничество и канитель житейского быта под разными соусами надоели читающей публике. Бессознательно жаждала она чего-то нового, а это новое, да еще в извращенном понимании, ошарашивало воображение концепциями, формами, трепетными, раздражающими намеками символов.
Так — хаотически, скачками, среди карикатурных курьезов завоевывала свое место на страницах истории новая русская литература. Все эти нелепости отвалились потом, как отмороженные пальцы. Осталось крепкое стальное звено в цепи русской — и европейской — преемственной культуры, которое, как чернорабочий, начал одиноко ковать Брюсов. Умирающий, расползающийся по всем швам, разлагающийся быт отражал эту эстетическую сумятицу в самых комических подробностях.
Дамы, еще вчера тяжелые, как куклы в насиженных гнездах, загрезили о бальмонтовской «змеиности», о «фейности» и «лунноструйности»; обрядились в хитоны прерафаэлитских дев и, как по команде, причесались а lа Monna Vanna.
Кавалеры их и мужья приосанились, выутюжились ala Оскар Уайльд. Появились томно-напудренные юноши с тенями под глазами. Излюбленным цветком стала «тигровая орхидея», впрочем, еще до Бальмонта увековеченная пикантным Мопассаном как «грешный цветок».
За ассамблеями подавались рюмки и бокалы на тончайших и длиннейших хрупких ножках, гостиные раскорячились «стильной» мебелью отечественного изделия, на спинках диванов повисли лоскутки парчи, вошли в моду тусклые, линялые цвета, в употребление — слова: «нюанс», «аспект», «переживание», «многогранность».
В те дни действительно «угрюмым магом» с высот «Метрополя» смотрел на этот «балаганчик» Брюсов, окруженный очень немногими друзьями, соработниками и почитателями, не пустившимися в пляс. Именно в те годы он, может быть, остро, как никогда, чувствовал потерю Ивана Коневского[58], на которого возлагал самые большие надежды и как на поэта и как на человека. Когда Брюсов говорил о Коневском, у него менялось лицо и он делался тем Брюсовым, которого так хорошо знала, может быть, одна я и которого так легкомысленно проглядел до конца Андрей Белый!.. Помню, в одну из наших совместных летних поездок Брюсов предложил мне поехать в «Ливонскую Швейцарию» (поблизости от Риги на берегу реки Аа, на могилу Коневского. Он не любил ни кладбищ, ни могил, и меня это желание удивило. В жаркий июльский день стояли мы на берегу Аа. Чуть заметные воронки крутились на сверкающей солнцем и лазурью воде.
— В одну из таких втянуло Коневского, — сказал Брюсов, — вот в такой же июльский день, вот под этим же солнцем… Он был без бумаг, его схоронила деревня как безвестного утопленника и только через год отец случайно узнал, где могила сына…
Он стоял, отвернувшись от меня, и бросал камешки в воду, с необычайной точностью попадая все время в одну точку. Это бросание камешков я видела потом много раз, — оно выражало всегда у В. Брюсова скрытое волнение и глубокую печаль.
Потом мы пошли на кладбище. Ах, ничего не потерял Иван Коневской, если деревня похоронила его в этом пышном зеленом раю, как безвестного утопленника. Зеленым шумящим островом встало оно перед нами, — низенький плетень, утопающий в травах, — ни калитки, ни засова, только подвижная рогатка загораживая вход — и то, верно, не от людей, а от коров… Совсем у плетня скромный черный крест за чугунной оградой, на плите венок из увядающих полевых цветов, а над могилой, сплетаясь пышными шапками, разрастается дуб, клен и вяз.
Брюсов нагнулся, положил руку на венок, долго и ласково держал ее так и оторвал несколько травинок от венка. Я знаю, что он очень берег их потом.
Ивана Коневского он вспоминал не раз в горестные минуты жизни. Кроме него, у Брюсова настоящих друзей уже не было никогда…
Книгоиздательство «Гриф» с его наклонностью к популяризации новых принципов и идей, то есть, по тем временам, к метанию жемчуга перед свиньями (да еще жемчуга, взятого напрокат у того же «Скорпиона»), было им всем не только смешно, но даже противно. Но, к счастью, тень его встопорщенных крыльев не упала на меня…
Так сурово и замкнуто работал для будущих поколений В. Брюсов, изредка выступая на публичных аренах в качестве тяжелого дальнобойного орудия, знающего свои цели и сроки. И с каким-то мазохистским упоением расточал себя А. Белый, распиная себя без нужды на всяческих общественных Голгофах, и писал, чувствуя себя действительно от всего этого несчастным: