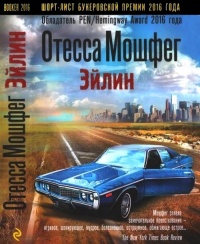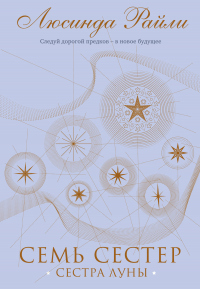Книга Тайнопись - Михаил Гиголашвили
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Пришли на ум наставления Феофила: «Пора браться за главное. Ты можешь понимать людей. Запиши рассказы Фомы, Симона, Никодима, всех других, кто знал Иешуа — некоторые еще живы. Запиши всё, что узнаешь о его жизни. А того, что написано об этом, не читай! Даже не трогай! Пиши свое. И рисуй, как видит око, ты же художник».
И Лука начал работу. Ходил, говорил, расспрашивал, записывал. А потом узнал, каково это — из мыслей вязать снопы слов, собирать в скирды. Засыпать в разбросанных словах, а просыпаться в стройных фразах. Давать словам отстояться и окрепнуть. Корявое — корчевать и гнуть. Неподатливое — взбалтывать и ворошить. Или крошить. Или мешать, как кипящий виноградный сок, чтобы застыв, варево слов стало крепким и твердым…
Рано утром, когда сизый дым от кизяка еще шатался над костром, панически крякала птица со сна и упруго скрипели деревья, Лука собирал мешок. Свинцовый штырь, писать. Черная тушь. Остатки красок. Квадраты пергамента. Хлеб и вода.
Постоял, правой ступней ощущая монеты. Прихватил приготовленную Йорамом палку-ветку. Поежился, но ничего на плечи не взял — внизу будет тепло, зачем лишнее волочить? И зашагал к лесной дороге.
Не обращая внимания на мелкий и упорный дождичек, он шел, припоминая, когда в последний раз спускался к людям. Два года назад?.. Два с половиной?.. Он не помнил этого точно, но был жаркий день и где-то тут яркая лиса увязалась за ним. Трусила по обочине, делала лапами странные знаки, как будто предупреждала о чем-то. А потом, тявкнув, пропала…
Сейчас там, где он когда-то встретил лису, Лука увидел детвору из горного села. Они собирали дичку и швырялись мелкими зелеными яблоками. Один, шкодливый, влез на дерево и бил оттуда без промаха прямо по головам. Дети трясли дерево, но скинуть его не могли.
Лука присел на камень. Рука сама собой полезла за пергаментом и тушью… Краски — роскошь, тушь — хлеб насущный. Вот лицо шкодника в изломах ветвей. Дети под яблоней: глаза к небу, руками дерево обхватили. Пес трусливо выглядывает из кустов — пришел с детьми, а яблок не ест и под обстрел попасть боится… Схватить миг жизни черной тушью так, чтоб главным было белое… Чернота оттеняет белизну, дает ей жизнь, и смысл, и суть. Без черного нет белого.
«Рисуй как можешь, а что выйдет — то уже не твое, а Божье!» — учил его апостол Фома, тучный старик, которого молодой Лука, будучи братом — писцом, еще застал в Кумране, где старик доживал свой земной век. Лука любил рисовать его, и Фома всегда шел на один и тот же камень, садился на него и начинал всматриваться в далекие пески: из пустыни когда-то пришел Иешуа, прежде чем уйти, чтобы вернуться навсегда.
Глядя на детвору, Лука вспомнил рассказы Фомы о том, что маленький Иешуа был боек и проказлив: дни напролет проводил на улицах в играх, и некоторые дети даже боялись с ним играться, зная: если кто его толкнет или ударит, даже нечаянно, то тут же упадет, или уколется, или станет болен животом, ушами или горлом. Конечно, Иешуа тут же помогал и лечил, но многие родители всё равно запрещали детям играть с ним — как бы чего не вышло. Отчим Иосиф конфузился и шумел, а Иешуа было все нипочем. Лазил, бегал, прыгал лучше всех. Умел сидеть на таких тонких ветвях, где нет места даже птицам. Как-то в субботу налепил из глины свистулек-соловьев. Иосиф поднял шум:
«Нельзя в субботу работать!»
А Иешуа махнул рукой — и птиц не стало:
«Чего кричишь? Ничего нет!» — так шутил с отчимом.
Или разбросает игрушки, мать велит собрать, а он говорит ей:
«Закрой глаза! А теперь открой!» — и всё убрано, по местам стоит.
Приходил тете помогать. Не успеет она ведро для плодов дать, как всё уже собрано и под навесом разложено. Просит его дядя баранов посчитать, а бараны сами в цепочке стоят: ждут, не блеют и не толкаются. А когда совсем маленький был, то увел как-то раз всех назаретских собак в лес и заставил их по деревьям лазить, отчего белки со страха попадали вниз, а птицы в панике улетели и больше не возвратились.
Да, много чего помнил Фома о детстве Иешуа, но главной вещи и он не знал. И никто не знал. А без нее всё остальное — только зыбкий свет. Где Иешуа был после детства?.. Это вопрос, на который никто не мог ответить. Или все отвечали по-разному. А без этого невозможно закончить работу. Поэтому дважды переписанное евангелие лежит за досками, а не у Феофила в келье.
Иные говорили, что Иешуа пятнадцать лет провел в Атлантиде. Другие сообщали, что он был небесной силой перенесен в страну, где у людей лица желтые, а дети рождаются с умом взрослых. Кто-то был уверен, что он жил у ессеев, но странно — никто у ессеев о нем не помнит. Ни в одном свитке — ни слова, ни звука, свои тайны ессеи хранить умеют… Может, жил в пустыне или уходил на небо, как думает простой народ?.. Но ни в пустынях, ни на небе земным делам не обучишься, а он понимал земную жизнь лучше всех других.
Фома утверждал, что Иешуа в юношестве ушел с купцами на Восток, в Индию, много лет жил там, узнал их язык и обряды, но что делал, где учился, с кем ходил, говорил, кого слышал и слушал — никто не знает. Был с ним там якобы один постоянный спутник, но пропал в Каракоруме, когда они шли назад, в Иудею — вдруг растворился в воздухе, исчез, оставив на песке рогатую тень. «А с тенью не поборешься! Воздух не поймаешь!» — пучил слезные глаза старик.
Фоме верить было можно: сам-то он слов на ветер не бросал, а чужие ловил, взвешивал и ощупывал. С детства был дотошен. Иешуа его любил, рядом с собой держал. И часто слышал от него Фома, что люди живут неправильно, что надо жить по-другому, не так, как отцы и деды, а наоборот. «А как наоборот — не объяснил!» — сокрушался Фома. Да как же не объяснил?.. Всё объяснил, просто Фоме всё надо разжевать и в рот положить. Но Фоме можно верить. У сомневающегося глаз цепче и ум живее. И врач нужен больному, а не здоровому.
Дождь перестал дробно крапать, усилился, зашуршал мерно, нарастая. Дети убежали. Последним сползал шкодник. Он скользил по мокрым веткам, и Лука, спрятав рисунки, помог ему спрыгнуть на землю, а сам отправился дальше, торопясь дойти до хижины лесников прежде, чем хлынет ливень. Там он застал одного Йорама — тот помешивал в ведре коричневый отвар, которым они обмазывали больные деревья. Лука отряхнулся, сел к огню.
— Все-таки идешь, значит, — насупился Йорам, орудуя палкой в ведре. — Утром в селе говорили, что в ложбине видели римскую разведку… Ты хотя бы крест снял! — вдруг обеспокоено вспомнил он, косясь на Луку. — Зачем на себя смерть зовешь?
— Да ты в своем уме, Йорам? Это не смерть, а жизнь, — покачал Лука головой и потрогал для верности крестик на шнурке.
Когда в первый раз переписывал евангелие, ему во сне кто-то невидимый, но упорный надел на шею крестик и сказал: «Этим спасешься и других спасать будешь, во веки веков!» Проснувшись, Лука вытесал крестик из дубовой чурки. И надел на шею, чтобы снять, когда закончит работу. И вновь надеть, но навсегда. Пока работа не окончена, пусть и крест будет на нем, сбережет и сохранит. — А твой где?
Йорам промолчал. По его примеру они с Косамом тоже сделали себе по крестику и надевали их, когда приходили к Луке, и снимали, уходя, потому что было опасно. Сейчас, наверно, на леснике креста не было, но Луке это было безразлично: вера не на шее, а в душе.