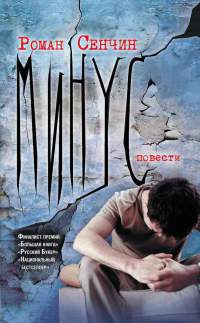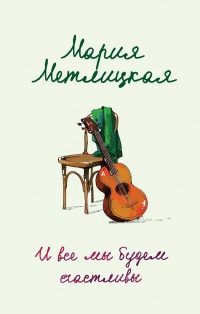Книга Когда цветут эдельвейсы - Владимир Топилин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Один раз так случилось. Шли мы с тятей в паре, по речке Ничке, к Кумовому гольцу поднимались. Под вечер отец говорит: «Беги, сынка, наперёд, за двумя поворотами, в распадке дрова готовь, ночевать будем». Устал я за день. С нартами так умаялся, лыжи переставить — в ногах сил нет. Пошел вперед отца. Вечереть начало. Смотрю, на стрелке ёлка хорошая, в пол-обхвата, но высокая. Если уронить, то одному рубить — работы на ночь хватит. Подошёл, оттоптал снег, руку за пояс — топора нет. Пока шёл, выронил. Назад возвращаться нет резона, время упустишь, а костёр всё одно надо разводить. Дай, демаю, сучьев побольше наломаю. Пока делом занимаюсь, тятя нарты дотянет, топор подберёт, потом дерево и завалю. Наломал веток большую кучу, развёл костер неподалеку, под склонившимся кедром. Пламя зашептало, а мне так хорошо стало: пригрелся, от усталости глаза слипаются.
Присел я на корточки, ткнулся головой и уснул. А во сне какие-то чудища грезятся: звёзды крутятся хороводом, ясные, чистые, как слёзы девичьи. Потом вдруг с неба туча упала, всё дождем запила. Но мне тепло, хорошо. Вроде дождь-то летний, июньский. И такая благодать, что просыпаться не хочу. Всю жизнь бы так лежал на зелёной полянке, не двигаясь. Вдруг вижу, какой-то медведь в стороне рычит, на меня идёт. В моих руках нож, но защититься им могу, сковало от безразличия все мои конечности. А зверь уже близко, подошёл, навалился, стал давить. Хотел я закричать, но вдруг вижу, что это не медведь, а подруга моя Акулина нежно целует.
Мне приятно, сил двинуться нет. Подняла меня на руки и унесла в небо!..
Очнулся от холода. Бирюзовая полоска на востоке горы зарубцевала — утро подходит. Нодья горит жарко, лицо греет, а спина мёрзнет. С другой стороны костра тятя спит. Долго я тогда по сторонам смотрел, вспомнить не мог, что и как произошло: кто ель свалил, нодью разложил да меня спать уложил? Дождался, когда отец проснётся, только потом всё узнал.
Оказалось, когда я из веток огонь запалил, уснул подле. Дым на кедре снег подогрел, кухта упала, завалила костёр и меня. Я от усталости не почувствовал. Тятя запоздал с нартами, подошёл, когда ночь наступила. Долго меня в темноте искал. Хорошо, с собой спирт во фляжке был. Намотал отец на таяк тряпку, налил спирт, поджёг факел, да только так меня обнаружил... Хорошо, что я не один шёл, а то бы замёрз.
Сколько в те времена вот так промысловиков погибало... Уйдут под снегопад, а там где найти занесённые снегом следы? Может, кто замёрз, другой в отпарину на реке провалился, третий ногу подвернул. Ни креста, ни могилки. За зиму мыши источат, а весной медведь или росомаха доест, вот и все дела. Даже у меня такое было. Один раз на звериной тропе останки человеческие находил: черепок клыками медвежьими прокушенный да косточки, позеленевшие от времени. А вдругорядь собака осенью на избу полскелета притащила. Тот немного «посвежее» был, ещё связки не прогнили. Вот только в голове дырка сквозная от пули.
Еремей Силантьевич больше чем удовлетворительно крякнул, допил чай, вытряхнул на снег крошки заварки, протянул кружку под котелок: налейте ещё! Саша понимающе налил золотистый напиток. Валя удивлённо, красиво приподняла пёрышки чёрных бровей:
— И что дальше?
— Что дальше? — переспросил дед Еремей.
— Ну, с останками людей что вы сделали? Вынесли из тайги?
— Зачем? — усмехнулся охотник. — Там же и закопал под дерево. А на стволе крестики топором вырубил для памяти. Наверное, и сейчас те могилки смогу показать.
— А как же власти? Может, кто из родственников нашёлся...
— Какие власти? Давно это было, как раз перед войной. По тайге тогда много народу шастало, опасные времена были. Кто золото искал, соболей промышлял, а другой от этих властей и скрывался. Здесь вся округа в сталинских лагерях была. Могло статься и так, что вынесешь из тайги останки, а тебе их и припишут. Тогда сразу десять лет без разговора... Лучше уж так, самому помнить. Бог простит! — Старик перекрестился.
После его слов наступила пауза. Девушка думала, прав или нет был тогда старый охотник, юноша представлял, насколько тяжелы были далекие времена, а сам рассказчик наслаждался терпким вкусом напитка, вспоминая, чем бы ещё потешить свой расслабившийся от чая язык.
Думать долго не пришлось: Валя сама нашла тему для разговора. Будто стряхнув седую пыль прошлого, девушка напомнила:
— Еремей Силантьевич! Помните, вы хотели рассказать байку про одного охотника, который убивал всех подряд?
— Байку?! Так то, внучка, не байка. Правда была, долго люди старые помнили. Дед мой много рассказывал. Да потом забывать стали, урок, видно, даром прошёл. Как там с кипятком? Есть, однако? Ну, тогда говорить буду, только недолго. А то бабка моя там все окна ресницами до дыр протёрла...
После этих слов Еремей посмотрел вниз, под гору, на свой дом, проговорил что-то тихо, едва слышно. Саша и Валя поняли это как: «Последний раз ждёшь, краса моя!»
Молодые люди посмотрели друг другу в глаза. Было видно, что сознание обоих нарекает верность и любовь, в которой пока никто из них не мог сознаться. Старый охотник заметил, увидел, как густо покраснела Валя, робко улыбнулся Саша, довольный зацокал языком:
— А жисть-то, детки, так хороша! — И поправился: — Так о чём это я хотел рассказать? Да, про жадного охотника!
Он сделал глубокий глоток из кружки, вдохнул из костра курившийся дым и начал:
— Наверно, давно это было. Даже дед мой те годы не помнил, одно говорил, что промышленник тот был немного старше его. Вот ещё примета одна: верёвочные капканы в ходу были, железных не было. Знать, где-то середина века была. Какого? А сейчас какой? Вот и я про то говорю девятнадцатый!.. Или чуть позже. Пошли, значит, охотники на обмёт, за соболями. Компания большая собралась, три или четыре нарты, значит, на каждые по два человека.
Сначала поднимались по реке, потом расходиться стали — разлука. Двое пошли позже всех, так случилось, что тайга им досталась дикая, нехоженая, неизвестная, крутые распадки под высокими гольцами. Один день после «разлуки» идут, второй, третий, а вывершить речку так и не могут. Один из них, молодой, не знаю, как звали, говорит старшему: «Давай здесь, на стрелке, стан сделаем, нарты бросим, переночуем, а завтра налегке пойдём дальше, места проведаем. Если будет ход (следы соболя), значит, вернёмся, потом нарты по лыжне протянем, а будет дело плохо — в другой ключ уйдём». Вот, значит, на этой почве у них разлад получился.
А в тайге ругаться — хуже нет, надо хорошо знать того, с кем на промысел идёшь. Как поссорились, разделили нарты, продукты, одёжку какую. Младший на стрелке остался, балаган сделал, а старший по реке дальше пошёл. До этого был большой снегопад. Дед рассказывал, что никто не помнил, чтобы в Сибири так много снега выпадало: лыжню невозможно топтать, по пояс проваливаешься. Однако потом перенова осела, на лыжах хорошо, а дикому зверю — смерть.
Вот, значит, идёт старший по логу, вдоль реки. Пойма небольшая, но случались и колки кедровые, заросли тальника, ольховника. Смотрит он: что такое? Впереди уши из снега торчат! Маралуха с телком едва живая на отстое стоит. Богатый пухляк согнал зверей с гольцов вниз. Видимо, не предугадали маралы, не успели выйти на мелкоснежье. Обрадовался удаче: мясо и прикорм само в руки пришло. Чиркнул «красный галстук» обоим, а сам дальше пошёл. Только вперёд продвинулся немного, ещё два зверя стоят: бык с коровой. Запурхались, сдвинуться не могут. Он и им кровь пустил, знает, аскыр всё равно прикормится. Довольный от такой удачи, продвинулся дальше, за излучину реки. Там, в займище, ещё трое стоят. Старший и им горло перерезал, оставил умирать. А сам вперёд побежал, знает, что и выше по реке такие же обреченные стоят. Бежал вперёд, жадность охватила охотника, только и успевал резать ножом.