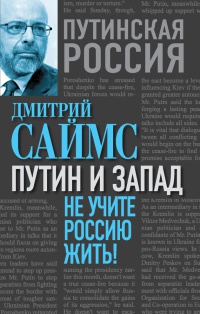Книга Могила Ленина. Последние дни советской империи - Дэвид Ремник
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Пошлой шуткой выглядел встречавший у въезда потрепанный транспарант “Мы придем к победе коммунистического труда”, висевший возле выцветшего портрета Ленина. Мы долго ехали к центру совхоза: здесь было правление, магазин, трехэтажные бараки из бетона. Нигде не было ни души, ни на дороге, ни на полях. Куда все подевались? Уж точно не уехали сеять. В магазине на прилавках магазина рядами стояли консервы: баклажанная икра и маринованные помидоры.
“Люди поехали на автобусе в Вологду за продуктами, — объяснил продавец. — Наверное, все сейчас в городе”.
А в Вологде откуда продукты? И почему в здешнем магазине нет овощей?
Продавец закатил глаза и терпеливо, как идиотам, рассказал нам, какие трудности испытывает совхоз. Министерство до сих пор не прислало зерно. Зарплата маленькая, работать никто не хочет. Нет запчастей для машин. Описание проблем заняло полчаса. “Так что, сами видите, работать бессмысленно”, — заключил он.
Те, кто не уехал в Вологду стоять в очередях, остались у себя в квартирах. У всех был включен телевизор, все смотрели одну и ту же телеигру.
Похоже, испытывал возмущение и готов был что-то делать только один молодой человек — Юрий Камаров. По его словам, из нескольких сотен здешних обитателей он был единственный, кто считал, что, если раздать часть земли крестьянам, из этого выйдет толк. У каждого в совхозе кто-то из родни пострадал: родители или деды сидели в тюрьме, умерли от голода, были депортированы, потому что мечтали о собственности и благосостоянии. “Думаю, я здесь единственный, кто во что-то верит, единственный”, — говорил Камаров. Ему было 27 лет, он мечтал выращивать скот и овощи на своем участке, но пока там не было ничего, кроме грязи и щебня. Каждый день после работы Камаров в одиночку строил дом для семьи — жены и дочки. Проходившие мимо соседи посмеивались. Другие грозились сжечь его недостроенный дом. Камарова оскорбляла эта черная зависть — порождение векового крестьянского рабства, что при царях, что при генсеках, зависть, выраженная в классическом советском анекдоте: у крестьянина сдохла корова, и Господь обещает исполнить одно его желание. О чем же крестьянин просит? “Пусть теперь у соседа корова сдохнет!” Но Камаров стоял на своем. Он взял ссуду в 24 000 рублей. Это означало, что он “по уши в долгах по гроб жизни. Да, это риск. Пусть их смеются. Может быть, они правы и ничего никогда не изменится. Но мне пора начать жить настоящей жизнью, какой жил мой дед до того, как случилась катастрофа”, — сказал этот человек с твердой верой.
Следы коллективного ведения хозяйства в Советском Союзе можно было обнаружить повсеместно. В одной только Вологодской области было более семи тысяч умирающих деревень, стояли безжизненные города с осыпающимися домами, заброшенные, некогда возделываемые поля. Последние десятилетия молодежь в массовом порядке уезжала из разоренных деревень и, надеясь на приличный заработок, устраивалась на работу на вологодские текстильные и машиностроительные заводы. Но и у этих молодых людей, как и у их предшественников, надежды на чудо не сбывались. Вместо индустриальной утопии им предлагались лишь монотонный фабричный труд и койка в перенаселенной комнате общежития.
Мы с Эдиком провели несколько дней в деревне Спасская под Вологдой. Вся деревня состояла из пары десятков домов, стоявших в ряд на одной улице. Позади заброшенной церкви был погост, могил на котором становилось все больше. Где-то раз в полгода из города приезжал рабочий, брал у кого-нибудь лопату и выкапывал на будущее могилу. За последние 25 лет в Спасской не родился ни один ребенок. До революции это было процветающее село. Теперь здесь было лишь несколько покосившихся домов, кладбище и залитая грязью колея.
Мария Кузнецова — сгорбленная старуха со злыми косящими глазами — занималась тем, что ухаживала за своими курами и перемывала кости с соседками, переговариваясь с ними через дыры в прогнившем сосновом заборе. В Спасской оставалось 17 жителей (когда-то были сотни)[80]. 75-летняя Мария была одной из самых молодых. “Зимой мы обходим дома, — рассказывала она. — Если из трубы не идет дым, значит, еще кто-то из наших умер”.
Мария Кузнецова жила на пенсию, у нее выходило меньше трех рублей в день. Еще недавно, до индексации, крестьяне-пенсионеры получали рубль в день. Основной едой были хлеб, молоко, макароны, щи, картошка и сало. Если Кузнецовой нужно было к врачу или в магазин, приходилось идти три с половиной километра по немощеной дороге и ждать автобуса, который “когда придет, тогда придет”. Зимой, когда температура опускалась до 30–40 градусов ниже нуля, а дорогу заносило снегом, жители деревни были “как в тюрьме”.
“Мы тут радио-то слушаем, там говорят вот это: «землю — крестьянам», частные хозяйства. А работать кто будет? — вопрошала она. — Кто будет поднимать деревню? Наше поколение должно передать свои знания, свой опыт следующему. Но все же нарушено. Все же уехали в город. Колхозы — это один разор. Ничего не осталось. Все пропало”.
Один из соседей Кузнецовой, Анатолий Замохов, выглянул из своего окна, что-то сердито бормоча. Услышав слово “Москва”, он сплюнул. “Я вам скажу про Москву, — сказал он, яростно затянувшись дешевой сигаретой. — До большевиков мои родители и их родители жили хорошо. Ей-богу. Богачами не были, но у них была еда, была корова, все было свое. А после коллективизации нам всем велели стать одной большой семьей. Но людей науськивали друг на друга, все друг на друга косились! И посмотрите, во что мы превратились? Одна большая вонючая помойка. Каждый живет сам по себе. Никто ни к кому не ходит на Пасху. Смешно, прости господи, просто смешно”.
Жители Спасской рассказали, что в коллективизацию множество крестьян согнали в концлагеря, построенные к северу от деревни. Милиционеры скидывали с церквей кресты, выбрасывали иконы, а в приделах и подвалах устраивали тюремные камеры. За три месяца в Вологодской области в таких тюрьмах умерло 25 000 детей. За несколько лет все связи, весь уклад деревенской жизни были уничтожены. “Хозяева на земле” в одночасье оказались на положении государственных рабов: у них отняли религию, традиции, собственную волю.
Презрение большевиков к крестьянам было оформлено в работах Ленина, который называл их “мелкими хозяйчиками”. По оценке Солженицына, до революции крестьянство составляло более 80 процентов славянского населения России. Сегодня те из “мелких хозяйчиков”, что не упокоились в братских могилах, не доживают свой век в городских коробках или в умирающих деревнях, свезены в интернаты — государственные дома для престарелых.
Недалеко от Спасской было село Прилуки, где около сотни стариков жили в таком интернате возле бывшего монастыря[81]. Заведовала интернатом добросердечная женщина Зоя Матреева. Она и ее сотрудники изо всех сил старались содержать интернат в чистоте, заботились о больных и умирающих, а когда приходило время, устраивали им достойные проводы. Матреева жила здесь много лет и говорила, что единственной мечтой стариков было вернуть прежнюю жизнь, какой она была до разорения деревни. Обычно дореволюционную русскую деревню советские и западные историки описывают настолько критически — тяжелые условия жизни, пьянство, невежество, — что трудно поверить, что кто-то может по ней скучать. Трудно — до тех пор, пока не услышить рассказы оставшихся в живых деревенских жителей о том, что было дальше, в начале 1930-х.