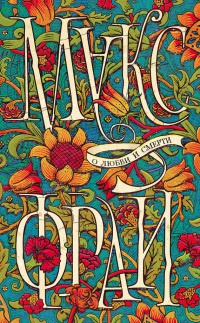Книга Песни сирены - Вениамин Агеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Терпеть не могу, – ответила Аэлита.
И это был именно тот ответ, который я ожидал от неё услышать. Я даже приободрился немного, но всё равно чувство обиды от её отказа так и не прошло до конца. Когда красные огоньки машины, увозившей от меня Аэлиту, мерцая, погасли вдали, я отправился в противоположную сторону, чтобы перейти на северный берег реки через старый кладбищенский мост. Мне захотелось немного побродить по улицам ночного города, чтобы дать волю воспоминаниям. Я много чего передумал за этот вечер и понял, что следует всё же проглотить свою гордыню и наконец сказать Фёдору о том, что его давняя обида несоразмерна проступку и моя роль в том, что его отвергли, весьма незначительна.
Увы, случилось так, что на следующий день меня послали в служебную командировку аж в Киргизию. Рабочий график у меня оказался довольно плотным, необходимо было закончить реконструкцию цеха помола после установки шаровой мельницы взамен старой, пришедшей в негодность. Невзирая на предполагаемую срочность, пусконаладочные работы несколько раз откладывались из-за всевозможных недоделок, сначала на восемь дней, потом ещё на десять, потом ещё на полмесяца. Так что следующая встреча с Достоевским случилась не скоро, а, между тем, за время моего отсутствия произошёл ряд существенных событий, так что к тому времени у меня пропало желание нести Фёдору свои извинения. Главный сюрприз ждал меня в первый же день после выхода на работу, когда я заметил, что на рабочем столе молодого специалиста вместо обычного хаоса царит идеальный порядок: карандаши в стаканчике, справочники на полочке, чертежи сложены аккуратной стопкой. Как выяснилось, Аэлита уже полторы недели назад сходила к директору треста и настояла на отпуске без содержания с формулировкой «по семейным обстоятельствам». После работы я помчался к ней домой, но и там меня ждала неудача. Дверь ведомственной малосемейки, где жила Аэлита, была на замке, за дверью стояла тишина. В квартире справа никто не открыл, из квартиры слева выглянула на стук молодая женщина с наполовину накрашенным лицом и, смущаясь, ответила мне из полумрака прихожей, что она уже несколько дней не видела Аэлиты и где та может быть, ей неизвестно. Но, видимо, её тронуло беспокойство, написанное на моём лице, потому что, когда я уже начал спускаться вниз, снова лязгнул замок и голос «левой» соседки окликнул меня из-за приотворённой двери:
– Эй, парень! К ней в последнее время молодой человек заходил, но не один, а с девочкой. Девочка лет пяти, светленькая такая. А больше я ничего не знаю.
Я рассеянно поблагодарил и, спустившись вниз, какое-то время стоял под крыльцом подъезда. Эту ситуацию нужно было хорошенько обдумать, хотя… Что тут было обдумывать? Всё и так было ясно. Скорее, нужно было осознать своё место в сложившемся положении.
Должен признаться, что, несмотря на многочисленные попытки отстранённо посмотреть на свои разбитые надежды, философского отношения к поступку Аэлиты у меня так и не возникло. Наоборот, если изначально я был склонен как можно скорее прояснить возникшее недоразумение, то впоследствии мне стало противно даже думать о том, что скоро мы неизбежно пересечёмся на работе.
Началось всё с того, что, едва я вернулся домой, меня одолели сомнения. Может быть, соседка что-то напутала? Может, у Аэлиты что-то случилось с родителями и ей пришлось срочно уехать? Возможно такое? Возможно. Да мало ли что могло произойти? Зачем я делаю скоропалительные выводы? Нужно просто подождать, и всё выяснится. Но ждать оказалось непросто. Настолько непросто, что на следующий день я, предварительно вновь постучавшись в закрытую дверь, прямиком отправился в Заречье. Ну и что тут такого, думал я, выходя из дома Аэлиты. Ну и что, ничего тут нет особенного. Мы же собирались увидеться с Фёдором? Собирались. Я просто приду к нему, и всё станет ясно. Даже если я её там и не увижу, я пойму по его реакции, встречаются ли они. Но мне уже было противно. Противно идти к Достоевскому, противно пытаться что-то выведать у него. Противно и унизительно. Я как-то вдруг осознал, что никогда не относился к Феде на равных, я всегда смотрел на него немножко свысока. Из-за его наивности. Из-за его книжной галантности и чрезмерного идеализма в те периоды, когда он находился в романтической фазе. И из-за его грубого цинизма, когда он впадал в противоположную крайность, будучи в очередной раз обиженным и отвергнутым, причём его цинизм произрастал от того же корня, что и романтические бредни. Он всегда казался каким-то ненастоящим. И я подозреваю, что не только мне, но и тем девушкам, которым Фёдор пытался понравиться, включая простую и незамысловатую Иру, пока она месяц или два находилась в статусе его возлюбленной. Даже Ира, которая, я уверен, смотрела на Федю только как на удачную партию и для которой в связи с этим его характер представлял интерес только с точки зрения личного удобства, и та посмеивалась над Достоевским, когда тот расточал ей изысканные комплименты в стиле галантного века. Невозможно было допустить мысли, что ему могут отдать предпочтение передо мной. Более того, я и конкурентом-то настоящим не мог его считать. В чём бы то ни было. А теперь иду к нему, рискуя столкнуться там с девушкой, которую я мысленно уже называл своей. Строго говоря, у нас с Аэлитой ещё ничего и не было, кроме взаимной симпатии, поэтому речь не шла о каких-то обязательствах. Но даже тот факт, что мне не хотелось торопить наши чувства, казалось, предвещал что-то большое и настоящее, и в этом свете поступок Аэлиты воспринимался как измена.
Я никого не застал у Достоевского. Дом был тих и пуст. Постучав ещё пару раз и потоптавшись несколько минут у ворот, я неторопливо зашагал по тротуару и тут же заметил фигурки молодой женщины и девочки, движущиеся мне навстречу. Почти не отдавая себе отчёт в том, что делаю, я повернул в узкий переулок, чтобы не быть обнаруженным, но в то же время иметь возможность убедиться в правильности своего предчувствия. Увы, оно меня не обмануло. Через несколько минут мимо меня по улице прошла Аэлита, держа за руку дочь Достоевского. Иллюзии исчезли, унося с собой былое очарование. Теперь самая мысль о нашей предстоящей встрече скорее удручала, и, если бы существовал хоть малейший шанс этой встречи избежать, я бы, не задумываясь, им воспользовался.
Прошло ещё несколько дней. Я старался не вспоминать ни об Аэлите, ни о Фёдоре, и мне это почти удавалось. Не то чтобы я совершенно успокоился, но, во всяком случае, мне удавалось сохранять хладнокровие – до такой степени, что, когда Аэлита вновь появилась в отделе, я нашёл в себе силы не только поздороваться с ней, но и холодно улыбнуться в ответ на приветствие. То, что она вела себя со мной скованно, только сильнее укрепило меня в подозрениях. Никто не станет так себя вести, если не чувствует себя виноватым, и никто не будет чувствовать себя виноватым, если он на самом деле не виноват. Аэлита даже попыталась пригласить меня в кафе в обеденный перерыв, чтобы, как она выразилась, «объясниться», но я отказался. Сослался на занятость, тут же, впрочем, добавив, что мне не нужны её объяснения. Это было лишним, поскольку намекало на мою обиду, но так уж вышло. Больше мы не сказали друг другу ни слова, да и в последующие дни общались в рамках производственной необходимости, не более. Попыток выяснить со мной отношения Аэлита уже не предпринимала, а вскоре мне пришлось вновь уехать по работе, и наши вынужденные служебные встречи на какое-то время прекратились. В командировке меня мало-помалу отпустило, по крайней мере, мне так казалось, и постепенно я перестал терзаться изменой Аэлиты. Однако я всё ещё время от времени возвращался мыслями к Феде и его дочери. Эта загадка продолжала меня мучить. Судя по возрасту девочки, она должна была родиться ещё до конца нашей учёбы в университете. Но ведь ничего такого не было. Я бы знал, если бы было. Правда, я слышал, что на четвёртом курсе, в где-то в середине зимы, Ира Генералова пыталась радикально решить вопрос о замужестве, заявив Достоевскому, что беременна от него. К тому времени мы с Фёдором уже не общались, так что информацию я получал из вторых рук. Но Серёга Стрельцов, который мне об этом рассказывал, был уверен, что Ира просто решила пойти ва-банк, поставив Достоевского перед выбором. Как раз накануне она гостила у Феди с полного одобрения и даже по инициативе его родителей, после чего Михаил Фёдорович и Анна Ивановна единодушно заявили сыну, что Ирочка – не та девушка, которую они хотели бы видеть в качестве своей невестки. У Фёдора, без сомнения, должно было хватить здравого смысла, чтобы не передавать этого завета предков своей без пяти минут суженой. Но Ира и сама могла сложить два и два, поскольку Достоевский, только недавно с энтузиазмом строящий планы на медовый месяц, вдруг включил задний ход. Так что Серёгино предположение имело под собой кое-какие основания. Но и в этом случае концы не сходились с концами. Я хорошо помню, что Ира заходила к нам перед отъездом, уже после защиты диплома, и никакого изменения фигуры я у неё не заметил. Нет, здесь было что-то не то. Здесь скрывалась какая-то тайна, и в этом заключалась дополнительная несуразность. Фёдор нисколько не походил на такого человека, который стал бы тщательно заметать следы и таить свои связи от окружающих, напротив, его можно было назвать душевным эксгибиционистом. Он очень охотно рассказывал о своих чувствах, и не только в тех ситуациях, которые могли бы ему польстить. Причиной этого, как мне кажется, была его несокрушимая самонадеянность. Если действительность не соответствовала его видению мира, то тем хуже для действительности. Непонятно почему, но Фёдор, например, нисколько не сомневался, что может осчастливить любую девушку, коль скоро на неё будет обращено его благосклонное внимание. При этом он отнюдь не был красавцем. Как я уже говорил, у него была немного неуклюжая и сутуловатая осанка в силу особенностей сложения: очень широкие и прямые плечи при общей субтильности, да ещё и слишком короткая шея. В лице Фёдора тоже не было ничего особенного – обычное лицо обитателя Восточно-Европейской равнины, никаких особых примет. Впрочем, отталкивающего впечатления он тоже не производил, и я лично знал двух весьма симпатичных и неглупых девушек, которые по нему вздыхали. Кстати, Федя тоже был в курсе этих вздохов, но он не был бабником, лёгкие пути его не прельщали, а чужие влюблённости ничуть не интересовали и не вдохновляли на ответность. Ему нужно было влюбиться самому. Я это к тому, что не требовалось талантов Шерлока Холмса, чтобы быть в курсе Фединых увлечений, для этого достаточно было находиться рядом. Да их и было-то всего три, и все они были незамысловаты, как книжки-раскраски для детей дошкольного возраста. Полагаю, что я знал о Достоевском ровно столько, сколько знали все остальные наши приятели, никак не меньше, и не похоже, чтобы у него имелась какая-то другая, скрытая от нас секретная жизнь. Но ведь она была! Иначе откуда бы взяться Лизоньке?