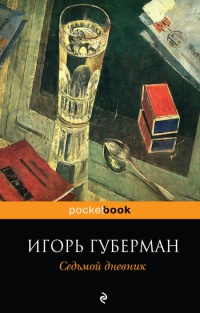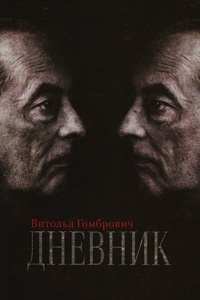Книга Но кто мы и откуда - Павел Финн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Целый день в Москве свербит: звонить Окуджаве, надо звонить Окуджаве. Господи! Как же не хочу! Репетирую будущий разговор. Драматургию надо построить таким образом, чтобы не сразу, легко, иронично коснуться проклятой шапки, чтобы, не дай бог, не подумал что…
Но уже вечер. Все! Деваться некуда. Набираю номер.
— Здравствуйте, Булат Шалвович. Это Паша Финн… Мы… в Ленинграде… у Венгеровых…
— Да, Паша, конечно, — вполне доброжелательно говорит он. — Я вас слушаю.
О, как много я мог бы сказать ему. Что он последний русский лирик, что его голос, его пение — это мелодии и молитвы наших надежд, наших печалей и любви… Но вместо этого волнение, стеснение — и вся драматургия к черту. И я бухаю:
— Дело в том, что в тот вечер у режиссера Авербаха пропала шапка.
Пауза. Долгая. Я краснею. Наконец Окуджава — холодно:
— Дело в том, что я обычно не присваиваю чужие шапки.
— Нет, нет! Что вы! Вы меня не так… Я вас не так… Просто все варианты…
Он молчит, слушая мой лепет. Из квартиры в трубку долетают голоса.
— Извините, — вдруг говорит Окуджава, — меня зовут. Разговор, конечно, интересный, но дело в том, что там у нас на кухне сидит Генрих Белль.
Еще раза два-три я видел его. И хотя он, конечно, давно забыл об этом дурацком звонке, я каждый раз старался не столкнуться с ним, прятался за спинами. А ведь я так много мог ему сказать…
Шапка, между прочим, нашлась.
Снова время Курсов — в Москве появляется еще один, тогда только будущий, лауреат Нобелевской премии.
Из писем Ильи Авербаха
Фельетон про Осю — верх мерзости и подлости. В нем нет ни одного слова правды, даже стихи чужие. Позавчера мы провели с Иосифом целый вечер, он переносит это мужественно и умно. Сначала были в ЦДЛ на вечере польской поэзии… Потом долго бродили по холодной Москве и говорили за жизнь и за искусство.
…История с Осей кошмарна, и я ничего не могу говорить по этому поводу. Она развивается по законам Кафки.
…Был у меня еще Ося Бродский. Читал бесконечные прекрасные пронзительные стихи “Прощальная ода”.
Из письма Ильи Авербаха
Люди летят в пропасть. Мир ослеплен собственной жестокостью, идиотичностью и нелепостью происходящего. Но ведь есть же причины. В чем они? В чем начало, исток одиночества, насилия, неверия или фанатической веры? Найти новые аксиомы, очевидные и точные. И строить новый мир. Понимаешь, в последнее время я вдруг необычайно остро понял, что никто мне ничего не объясняет. Мне стало скучно читать, смотреть фильмы, разговаривать с людьми.
Читаю “Грасский дневник” Кузнецовой, которую называют “последняя любовь Бунина”. О боже! Они — те люди — всё время говорили! О литературе, философии, политике. Говорили друг с другом. Им интересно было говорить друг с другом. И не перебивали друг друга, слушали друг друга. А мне с кем теперь говорить? Кого слушать?
О любви, о женщинах? О да, да!
О Шиллере? Нет, не говорили. О Бунине — часто, хотели делать “Митину любовь”. О Платонове и Булгакове. О Трифонове. Ходили к нему в Москве на улицу Алабяна просить разрешения на экранизацию “Старика”. Трифонов отнесся вполне благожелательно. Но начальством на этот роман в кино было наложено вето.
Самая маленькая комната — “Илюшина” — напротив входной двери. Сейчас пытаюсь нарисовать ее в памяти. Тахта, у окна письменный столик, за которым он работал, книжные полки. Я обязательно подолгу рылся там. Оттуда выудил “Опавшие листья” Розанова, которого до этого не читал. И заболел им навсегда. Без книг к себе в гостиницу не уходил.
Ох, эти номера в гостинице “Советская”. Поднимешься к себе на этаж в лифте вместе с толпой измученных сухим законом пьяных финнов — извиняюсь за каламбур — и шумных ленинградских шлюх. Запрешься, чтоб не ворвались, спутав во хмелю дверь. Сам тяпнешь из бутылочки, припасенной в холодильнике, под каменный пирожок с капустой. И сразу звонить Илье, как будто не наговорились…
Тогда я особенно сильно болел одиночеством. Именно так. Не был одинок, но болел одиночеством. В такие периоды душа особенно ищет того, кому ты можешь доверить себя.
До сих пор… не наговорился…
— Привет, Илья. Давай поговорим. Обо всем. Как прежде.
Слышу его голос — из телефонной трубки:
— Пауль! Пиши лучше!
Или мог позвонить из Ленинграда в Москву и спросить, как я понимаю стихотворение Мандельштама “За то, что я руки твои не сумел удержать…”. Я застигнут врасплох, но должен ответить — поддержать репутацию. Но мое наспех соображенное толкование его не устраивает. Через час уже сам звоню — из Москвы в Ленинград, — предлагаю новую версию… Со стихотворением “Сохрани мою речь навсегда” прохожу испытание успешнее. “Молитва!” — говорю я. И он соглашается.
Что такое молитва? Попытка прямой связи в надежде на обратную.
О поэзии говорим постоянно. У него дома, по дороге на студию — на ходу. В машине — он за рулем. Вылавливаем из памяти неожиданные строчки и по ним наперебой восстанавливаем все стихотворение. Он часто повторяет “Да простит тебя Бог, можжевеловый куст!” И я заболеваю стихотворением Заболоцкого. Вспоминая мои бесконечные споры с Венгеровым, сходимся в нашем отношении к Маяковскому…
Когда сгущаются тучи и духота становится невыносимой, чающая движения вод и обманутая иллюзиями душа просит у небес освежительного хотя бы дождя и испепеляющей молнии. Появляется Маяковский, просит немедленной революции, гениально пишет о любви и совершает трагическую ошибку, отдавая “всю свою звонкую силу поэта” атакующему классу.
Вся наша жизнь в СССР, в кино — среди атакующего нас класса чиновников и гэбэшников — приучала к шепоту, намекам, шифру, лукавству, самозащите с помощью конформизма. Впрочем, “они”, одурманенные постоянным страхом перемен и расплаты, находили зёрна крамолы даже там, где мы их не сеяли.
“Неужели это никогда не кончится?” — спрашивали мы с ним друг друга постоянно. Какая бессмыслица — пройти, сгинуть, так и не сказав не таясь, просто сказать — без оглядки на них, — как и почему сжималось твое сердце, что вызывало у тебя печаль, сострадание, ненависть и жалость.
“Мы с ним всегда были уверены, что умрем при советской власти. Он не ошибся. Вдруг, ошеломив поспешностью, ушел на самом пороге иной жизни, даже не догадываясь, что она может быть. Странной жизни, дикой, обманчивой, бросавшей то в жар, то в холод. Путающей надежды с разочарованиями. Дающей меньше, чем посулившей. Но всё же — новой — всё же куда как более подходящей для нас с ним, чем привычный сумрак постоянного распада”. К семидесятилетию Ильи в “Искусство кино” — мои “Заметки пессимиста”.