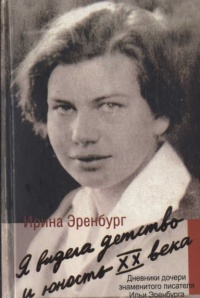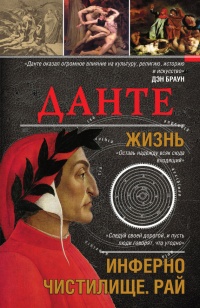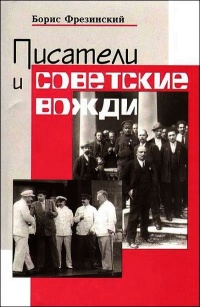Книга Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга - Юрий Щеглов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Великое искусство — жестокая вещь, и оно требует жесткости и безжалостности: иначе не запомнишь, упустишь, никого не спасешь, а увиденное и предназначенное к вечной жизни погибнет, и ты станешь соучастником казни — мог заклеймить и не сумел. Впрочем, никто моих мыслей в России не оценил, если и прочел.
Сцены казни волновали художников куда сильнее, чем обнаженная женская натура в соблазнительных позах. Я никогда не умел вытеснить из сознания раннюю картину Эдуарда Мане, воскрешающую расстрел мексиканского императора Максимилиана. В ней Мане мучительно переживал влияние Гойи. Стволы ружей почти воткнулись в грудь несчастного.
Против смертной казни
Я видел казнь на виселице осужденных в Киеве немецких военных преступников и с того дня стал убежденным и непримиримым противником смертоубийства по приговору, а о прилюдном исполнении судебного решения и толковать нечего. Оно разрушает психику нормального человека навсегда. Справедливость лежит за пределами отнятия жизни у тех, кто отнял жизнь у невинных. Подведем преступника под кару, но не будем ему уподобляться.
Если не ликвидировать смертную казнь, с убийцами будет бороться труднее, а жертв не станет меньше.
Горечь всегда сильнее радости
Каперанг имел такие же смоляные волосы, как гверильяс на Принсипе Рио. Белая больничная нательная рубаха, вскинутые руки, выражение лица исполнено упрямства и бешеного гнева, да и сам испанский вариант бойни роднил их. Почему мы все-таки просрали Испанию и почему даже бесспорная победа над Гитлером, не так давно торжествовавшим над нами там, не растворила в Каперанге горечь от прежнего поражения, которое нанес каудильо Франко, кучерявенький толстяк из «Правды», с хеттейским кривоватым носом, висящим над раздутой губой. Говорят, Франко гордился тем, что в его жилах течет еврейская кровь, что якобы свидетельствовало о древности происхождения. Он был не чужд аристократических претензий, и столь странный способ их утверждения, несмотря на покровительство нацистов, не был отвергнут ни им, ни его советниками.
— Да ты не поймешь, — заметил Каперанг по поводу заданного вопроса. — Сложно тебе объяснить. Идеи мировой революции сейчас ушли в прошлое. Нельзя было отказываться от «Интернационала». Это раскололо народ.
Он был прав: я ничего не понимал. Насчет «Интернационала» я не имел никакого мнения. Слова безумно нравились, и музыка тоже. Сейчас «Интернационал» поют исключительно китайцы и маргиналы европейского и латиноамериканского континента. Есть над чем призадуматься.
Со второй проблемой дело обстояло куда проще. Война с Гитлером оказалась начисто лишена романтического ореола и испанской экзотической атрибутики. Каперанг воевал по большей части на территории родной страны. Все им испытанное никак не вязалось ни с экзотикой, ни с романтикой. Испания — иной коленкор! Бело-огненные расплющенные звезды, терпкий запах ночного моря, кислое ледяное вино, тонкой струей льющееся из глиняного кувшина, протяжные песни и скачущая музыка, иногда перекрывающая глухое уханье бомбовых ударов, грохот каблуков — черных женских — и перещелк кастаньет, мимолетная жаркая, очень простая и понятная любовь без всяких обязательств и даже обмена именами, взволнованные ряды интербригадовцев с поднятыми кулаками, жертвенность счастливо улыбающихся очкастых интеллигентов, страх и боль от проигранных битв, ненависть к тем, кого винили в партийном расколе и последующих неудачах, первое столкновение с настоящими военными профессионалами, не скрывающими агрессивных целей, азарт кровавой бойни и прочие события, люди и предметы затмили горы гниющих под солнцем трупов, сделали их приемлемыми и обязательными, исказили суть борьбы за власть и превратили пиренейские — зачастую ужасные — картины в ту единственную горько-сладостную реальность, которой он жил в молодости. А война с нацистами осталась в сознании как ежедневный тяжелый и грязный труд, о котором вспоминать не хотелось. Победив и отринув ее, он возвращался на желтый песок под горячие лучи, льющиеся с бело-голубых небес.
Подспудно и непризнанно горечь от испанского поражения получилась сильнее радости победы над Гитлером. Горечь всегда у обыкновенного нормального человека сильнее радости. Ни начальство, ни правительство, ни партия никогда этого в России не понимали и не желали считаться с подобным устроением человеческой психики. Горечь пропитывала ностальгическое чувство, тоска по несбывшемуся одолевала, недостижимое и теперь непостижимое не оставляли в покое. Могли ведь выиграть испанскую баталию? Могли! Должны были выиграть! И Каперанг лихорадочно искал ответ на вопрос: почему продули, проиграли, просрали?! Он относился к той категории людей, которых сейчас называют презрительно сталинистами. Он свято верил в непогрешимость вождя и винил в неудачах всех, кроме него и обитателей партийного Олимпа. Ему чудилось, что там наверху всё знают и всё понимают, а главное, следят за его поступками и одобряют их. Но он был честным человеком и не умел, да и не хотел черное выдавать за белое. Он был обречен на гибель, погружаясь в пучину противоречий. Вечное присловье: об этом говорить нельзя, запрещено произносить ту или иную фамилию — не отвечало сути его прямого, доверчивого и открытого отношения к жизни. Загадкой остается до сих пор: отчего он выбрал меня в конфиденты? Зачем он делился со мной своими непростыми и мучительными отношениями с эпохой?
Точка зрения власти
Мало того, что я получил Достоевского. Я еще выписал томину стенографического отчета Первого — организационного — съезда советских писателей, вычитав в старом журнале, что именно там Виктор Шкловский и прочие передовые умы дали совершенно правильную трактовку архибольного и архиненужного России писателя. Окунувшись в «День второй» и убедившись в зависимости Эренбурга от личности и творчества Достоевского, я предположил, что на съезде в речах участников что-нибудь да прояснится. Я предполагал, что Эренбурга разнесут в пух и прах.
Серьезные игры с Достоевским до смерти Сталина представляли весьма конкретную опасность для того, кто их затевал. Действительно, на съезде невезучий Федор Михайлович получил из разных уст соответствующую негативную оценку. И хоть бы кто-нибудь вступился! Дело-то литературное, а не политическое.
Большевистские идеологи на исходе 20-х и в начале 30-х годов всячески редактировали Достоевского, извращали и поносили, одновременно, что весьма странно и нелепо, признавая его роль как художника-реалиста. Наиболее резко клеймил Достоевского Виктор Шкловский — один из ведущих представителей критической мысли в нарождающемся социалистическом государстве. Он утверждал, опираясь на Ленина, что Достоевский при всем величии есть явление болезненное, а потому пролетариату и интеллигенции не нужное. Причем утверждал это и в кулуарах, и с трибуны в какой-то психопатической раздерганной и безграмотной форме: «Пятьдесят два года назад на открытие памятника Пушкину приехал один, уже тогда знаменитый, писатель. Он привез с собой рукопись. Ему очень долго не удавалось напечатать эту рукопись, — он ходил с ней то в одну, то в другую редакцию. Эта рукопись была прочтена в этом зале. Ее читал Достоевский, он имел тогда большой успех. Он писал: „Дамы, статс-секретарь, студенты бросились ко мне“. Об этой рукописи мы знаем все. Об этой рукописи писал Глеб Успенский. Он называл ее не только всечеловеческим произведением, но и всезначимым. Об этой речи говорил здесь несколько дней тому назад Алексей Максимович Горький».