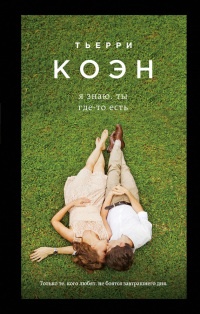Книга Если очень долго падать, можно выбраться наверх - Ричард Фаринья
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Лимфатические гроты Лимба.
Три дня он провел в постели, исполняя наложенную на себя епитимью и вставая только затем, чтобы сменить прокладки. Старые — желтые и вонючие — он сжигал и старался держать пустым мочевой пузырь. Едкая и мучительная боль оказалась слишком серьезной, заглушить ее не удавалось, поэтому он больше не пил. Лишь разглядывал потолок и жевал жирные кольца чоризо, изредка задаваясь вопросом, что же стало с его Иммунитетом. На улице непрерывно тарахтело. Винтовки по утрам, пулеметы после полудня, гранаты к вечернему коктейлю. За каждым взрывом — плоское эхо хлопающих крыльев: то взмывали в воздух голуби, до полусмерти перепуганные сотрясением воздуха. В окна летела пыль.
К концу семьдесят второго часа он перевернулся и обнаружил на подушке влажный овал — напоминание об открытом ночном рте. Грязно-желтый мешок судьбы перелился через край. Огрызком карандаша он накарябал над кроватью: Мешок из пленки — запечатан и закручен.Но мы найдем в нем клетки — чтобы грызтьи рвать их в клочья — добровольно.
— Настенные письмена?
В дверях стояла улыбающаяся Джек.
— Не совсем, старушка, скорее налобные. Людям нужны зеркала, без них никак.
— Получится задом наперед. Ну и как ты? Инкубационный период кончился?
— Только что. Можешь подойти и успокоить мое гниющее тело. Где Хефф?
На ней были шорты цвета хаки, спортивная рубашка и черный берет.
— Сказал, что, если ты решишься посмотреть миру в лицо, он будет ждать на площади. Мы нашли обалденный погребок, там полно абсента. Ты не знал, что в Гаване его еще делают? — Она бросила Гноссосу бойскаутскую рубаху. — Будешь так валяться, превратишься в капусту.
— Я больше не пью. Чем меньше жидкости, тем лучше.
— Черт возьми, почему ты не идешь к врачу? Хуан сказал: два укола, и все как рукой снимет. Хуана слушать надо, это его лужайка.
— Триппер Овуса так просто не вылечишь, солнышко, — что ему пенициллин? И потом, я хочу сперва вернуться в Афину. Какой сегодня день?
— Среда, представляешь? — Она поправила берет и сунула ноги в сандалии. — Ты провалялся три дня, пора воскресать.
— Некому откатить камень, детка — где, ты говоришь, Хефф? — Гноссос покачиваясь, сел на кровати и завертел по сторонам небритым подбородком. Джек заботливо пригладила ему волосы, убрала их за уши.
— Можешь посмотреть с балкона. Где твоя кепка?
Пока он плескал на лицо холодную сернистую воду, она держала огрызок полотенца.
— Я ее сжег, старушка, конец эпохи.
— Бейсбольную кепку? Ой, Папс.
— Пошла на растопку, да, пепел развеян по ветру, пиздец. Скажи лучше, что у вас там? Хефф нашел Будду?
— Он все это время где-то носился — кажется, для кого-то из этой жуткой мафии. Мы всерьез разжились на бабки — наверное, он об этом и хочет с тобой поговорить.
Несколько секунд Гноссос молча крутил в ухе углом полотенца.
— Значит, теперь все?
— Завтра. Это довольно интересно. Я, наверно, пойду с ним.
— В горы?
— Почему нет? — Она стояла на балконе и всматривалась поверх крыш в далекую гавань. — Там куча всего происходит.
— Господи, ну еще бы.
Она смущенно одернула рубашку и переступила с ноги на ногу.
— Только немного страшно.
Не желая больше сеять семена сомнений, Гноссос прошел через всю комнату и поцеловал Джек в лоб — та состроила гримасу.
— Значит, универ побоку?
— Видимо, да. Осточертела школа.
— Только не оглядывайся — а то превратишься в соляной столб, или в пожарный кран, еще хуже.
— Я не буду обещать, ладно? Вдруг захочется подсмотреть, как там у вас дела.
— Конечно, никаких обещаний. Как я выгляжу?
— Херово с такой щетиной. Но сейчас некогда, иди, он уже давно тебя ждет.
В дверях Гноссос оглянулся — Джек раскладывала на кровати вещи. Маленькая чокнутая лесби, вот и пойми ее.
— Эй…
Она подняла взгляд, и он вдруг подумал, что, как только выйдет за дверь, Джек сядет на кровать и расплачется.
— Чего, Папс?
— Ничего. Черт, все равно оно уже на стене.
Они жевали сахарный тростник, лениво развалясь в тени и разглядывая прохожих. Мальчишки с волнореза — те самые, что три дня назад явно влюбились в Гноссоса, а точнее, в его серебряные доллары, — толклись на другой стороне площади, и, похоже, давно. Хефф размахивал руками, возбужденно смеялся, прищелкивал пальцами, подскакивал на месте и шуршал новенькими банкнотами.
— Шесть месяцев, старик, так они рассчитали. К Новому Году — наступление по всему фронту, постарайся въехать в мои слова. Ты должен быть с нами.
— Н-да, детка, ты, кажется, всерьез в это поверил.
— Видишь бабки? Натуральные американские доллары. Блять, ну что ты забыл в Афине? Я говорил с одним мужиком; они берут всех, у кого есть глаза и уши.
— Ты бы хлебнул, а? Что там, Джек говорила, за погребок с абсентом?
— Брось, Папс, не виляй, они даже согласились, чтобы мы были вместе. Хочешь еще тростник?
— А как же Ламперс с Розенблюмом?
— Ну их в зад, слишком увязли. Слишком влезли в эту детсадовскую возню с Панкхерст и прочую школьную хуйню.
— Что-то у меня в глазах помутнело, да. Потерял кнопку Исключительности, надо бы поискать.
— Эй, да ты, я вижу, вообще не понимаешь, о чем я. Мужики намерены идти до конца. Это не рейд и не диверсия, старик, они лезут по-настоящему. Такое дело, что прочистит тебе мозги на всю жизнь.
— Мне мозги — вряд ли. Где, кстати, продается этот тростник?
Шепотом, заталкивая Гноссоса под дерево:
— Старик, они пойдут до конца, чисто через весь остров, прямо с Ориенте, точно в центр!
— Ты же кое с кем разговаривал, детка, думай, когда связываешься.
— Батиста просрет, Папс, ему крышка, все, пиздец.
— Послушай, а знаешь, кем я хочу стать, когда вырасту?
— Кем хочешь, тем и станешь, мы будем в этих чертовых горах в пятницу утром, самое позднее, к вечеру.
— Зеркальщиком — вот кем. А может, я слишком многого хочу?
— Ты даже бороду отпустил, старик, пусть себе растет.
Гноссос начал говорить про то, что все будет в порядке, ступай с миром и прочее в таком духе. Те же самые благословения не успели сорваться с его губ три дня назад на корабле, когда появился Аквавитус. Только теперь это был Будда.
Он выплыл из теней на другой стороне площади — семифутовый негр с опалом во лбу. Ступил в пятно солнечного света, ухмыльнулся и исчез в дверях бара. На спине его оранжевого балахона было написано одно единственное слово: