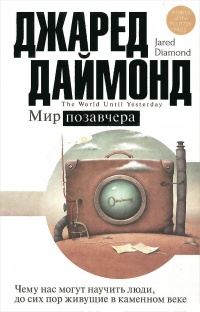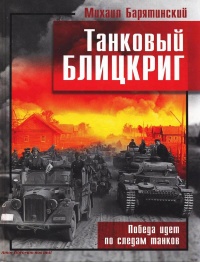Книга Университетская роща - Тамара Каленова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Крылов пододвинул поближе голубоватый лист бумаги и начал писать.
«О clare amice mi! О знаменитый друг мой!
Прочел в нынешнем «Вестнике» заметку и подивился: как у вас, с вашим здоровьем, хватает сил на длительные вояжи по стране, на многие труды, каковые требует образцовое научное учреждение?
Не бережете вы себя! Один наш торговый человек, будучи в Ирбите на ярмарке, разговаривал с вашим минусинским купцом. Так тот купец сказывал, будто бы вы болеете часто, дрова музею отдаете, а сами без огня сидите. Верно ли это? Неужели в вашем городе не находится покровителя такому делу?!
Вперед попрошу вас, друг, не забывать, что есть город Томск. Станет худо в Минусинске — приезжайте ко мне вместе со своим семейством. Будем работать, и вам занятия подходящие сыщем. Квартира у меня большая, места всем хватит. Тем паче мое семейство, как ни странно, скорей убывает, нежели прирастает.
О своих научных занятиях скажу немного: работаю по мере сил своих. Вот присылаю книжицу о шелкопрядах. Что скажете об ней?
Но самое главное не в этом. Задумал я взяться за обширный труд — описать флору всей Сибири. Сначала Томской губернии, Алтая, затем — все, что позади Байкала. Знаю, не один десяток лет и, может быть, даже не одну человеческую жизнь этот труд предполагает, но когда-нибудь и кому-то начинать его надобно. Не так ли? Вот почему нужен ваш совет и участие. Вы Сибирь хорошо знаете…»
В этот вечер он засиделся за полночь. Не выносящий одиночества, Иван Петрович несколько раз скребся в дверь, пытался выманить чтением занимательных, с его точки зрения, сообщений об открытой недавно секте страстеборцев, которая боролась против главных страстей человеческих — пьянства и любострастия — …пресыщением, приготовляя таким «естественным путем» тихую себе старость. Но Крылов был глух к его покушениям.
Открываясь другу в мечте своей, он тем самым как бы давал молчаливую клятву сделать все, чтобы мечта эта перешла в дело. Иначе мечтать он не умел и пуще прочих грехов боялся на вей-ветер говорить, на пусты леса звонить. Слово дать не хитро, сдержать его — что крепость выстроить.
Отправив жене обещанную сумму денег, Крылов медленно шел с почтамта. Ясный февральский день был удивительно хорош. После многосуточных хлопот веялицы-вьюги установилось наконец волшебное бездействие природы. Все вокруг обеззвучело, замерло. Оцепенели засыпанные снегом кусты и деревья. Замолкли птицы. Лишь человек, беспокойнейшее творение, возмущал тишину: скрипел под валенками сбитый наст; вдоль всей улицы раздавалось живое повизгивание саней; слышались грубые голоса легковых извозчиков, одергивающих лошадей. В городе воцарилась неожиданная мода ездить по-европейски: степенно, экипаж за экипажем, «будто на похоронах». Томские гужееды нервничали, проклинали очередную блажь имущих седоков. Теряя во времени, а стало быть, и в заработке, вымещали обиду на ни в чем не повинных рысаках, привыкших к ухарской гоньбе по кривым и горбатым улицам.
На углу Московского тракта и Почтамтской, как раз напротив университетских клиник, Крылов наткнулся на уличную сценку — сшибку мужика с урядником.
Рядовой томич, в пимах, в собачьих рукавицах и в такой же косматой пегой дохе, весь квадратный, коренастый, вез на себе дровни с пустым коробом.
— Стой! — преградил ему дорогу урядник с «селедкой»-саблей.
Мужик остановился — он был «выпимши», — долго разглядывал фигуру, затем изумился:
— А-а, городовой! Чаво те надобно?
— Чей короб?
— Мо-ой.
— Врешь! Украл!
— Как это украл? Нешто у себя воруют? — мужик хотя и стоял на ногах нетвердо, однако ж, еще не «впал в забвение» и говорил разумно.
— Дурак! Пошел в часть!
— Да отскочи ты от меня, Христа ради. Чаво ты ко мне пристал?
Урядник дал мужику увесистую затрещину. Мужик в ответ пихнул его в грудь. Оба упали, засопели, закряхтели, забарахтались. Городовой попытался впрячь строптивца в его же собственные сани. Мужик улегся на снег. Тогда власть ухватила его за доху и швырнула в короб.
— Вот же тебе!
Прошла минута — и из короба:
— А коли так, и вези ж сам таперь ты меня в часть…
Крылов миновал перекресток, на котором в немой сцене подле короба застыл, словно индюк-дурка, городовой, и свернул в рощу через малую калиточку возле клиник.
Ботаника его ремесло. Но жизнь больше ремесла, говорят французы. И они правы. Никто, даже самый увлеченный в мире человек, сосредоточенный всецело на одном предмете, не в состоянии не замечать окружающей жизни. Крылов не был исключением. Уличная сценка показалась ему знаменательной.
Ощущение всеобщего неблагополучия, подобно обручу, обхватывало душу все туже. Что-то уж больно много виноватых становилось в родимой отчизне… Крестьяне, ремесленники, интеллигенты, заводо-фабричный люд… Кто только не проследовал за последние годы через Томск! Во время летнего рекоходства, до самых октябрьских морозов, шли и шли арестантские баржи. Сколько их? Кто считал… Участились забастовки на томских фабриках. Власть называет их уголовщиной, шабашем, а рабочие именуют стачкой. Протест бездействием, «лежанием на снегу», прекращением извечного для человека трудового обряда оказался столь заразительным, что от рабочих перекинулся даже к хозяевам, к промышленникам. Алтайские и томские виноторговцы тоже недавно объявили… стачку, желая установить двойную цену на ведро водки. И установили-таки!
Тюрьмы переполнены. В больницах люди лежат вповал.
Неспокойно и в университете. Отголоски профессорского противостояния все еще слышны в академически-белых стенах. В Доме общежития обыски: ищут какие-то недозволенные книги, брошюры. Студенты-отличники, не так давно с жаром писавшие сочинения на тему «Значение реформ Петра Великого» или «Влияние монгольского ига на историю России», теперь слагают прокламации: «Долой полицейскую цензуру в высших учебных заведениях!». В ответ — воспитательное давление…
Давеча вон разбирали на совете инспекторов и преподавателей поведение студентов. Зачитывали объяснительные и доносы.
«Я сидел в театре, — пишет студент второго курса Соколин. — Подошел билетер и вызвал к приставу Аршаулову. Этот последний заявил, что полицмейстер просит меня удалиться из театра, так как я одет не по форме, добавив, что китель есть форма обыденная, и что в театре в нем нельзя. Я со своей стороны сказал, что из театра не уйду, а назавтра объяснюсь с инспектором».
Красноречивы и донесения тех лиц, которые призваны «у заслонки стоять».
«Честь имею довести до сведения господина инспектора студентов Императорского университета, что вчерашнего числа в день рождения Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны, в театр Королёва во время представления студент II курса Георгий Яковлевич Соколин явился в кителе и, несмотря на мое замечание, пробыл в театре одно действие, во время которого был пропет гимн «Боже, Царя храни…»