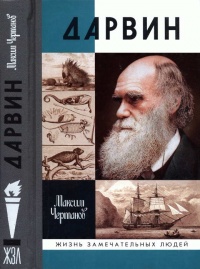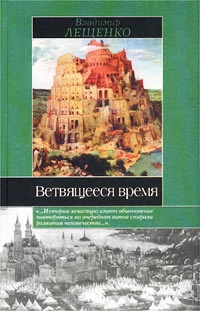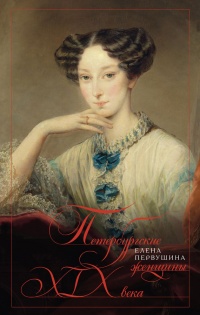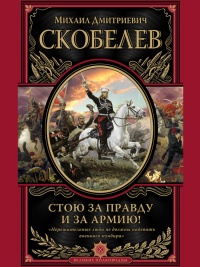Книга Сон Бодлера - Роберто Калассо
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Современность» — «новизна» — «декаданс»: три слова лучами расходятся от каждой фразы, от каждого вздоха Бодлера. Попытка отделить их друг от друга обернулась бы кровопролитием. Как было когда-то с «современностью», слово «декаданс» тихонько вышло на первый план, словно извиняясь за то, что его употребляют авторы, говоря о себе. Опередив Бурже на несколько лет, первопроходцем в этом деле стал Готье: «Поэт „Цветов зла“ любил то, что ошибочно называется стилем декаданса и есть не что иное, как искусство, достигшее той степени крайней зрелости, которая находит свое выражение в косых лучах заката дряхлеющих цивилизаций: стиль изобретательный, сложный, искусственный, полный изысканных оттенков, раздвигающий границы языка, пользующийся всевозможными техническими терминами, заимствующий краски со всех палитр, звуки со всех клавиатур, усиливающийся передать мысль в самых ее неуловимых оттенках, а формы в самых неуловимых очертаниях; он чутко внимает тончайшим откровениям невроза, признаниям стареющей и извращенной страсти, причудливым галлюцинациям навязчивой идеи, переходящей в безумие. Этот „стиль декаданса“ — последнее слово языка, которому дано все выразить и которое доходит до крайности преувеличения». Этот пассаж мог бы служить преамбулой всего искусства, которое в течение как минимум столетия осмелится именовать себя «новым». Чуть далее на тесную связь и даже единокровность «декаданса» и «современности» указывает тот же Готье, говоря о Константене Гисе, неуловимом, невесомом ночном глашатае современности. Отчего Бодлер так упорно превозносил Гиса? — вопрошает Готье. По какой причине он ставил этого иллюстратора выше истинных и строгих мастеров? И себе же отвечает: «[Бодлер] любил в этих рисунках полное отсутствие античности, то есть классической традиции, и глубокое ощущение того, что мы будем называть „декадансом“, за неимением другого слова, которое бы лучше подходило для нашей мысли; но мы знаем, что именно Бодлер подразумевал под декадансом». Если же это кому-то до сих пор неизвестно, Готье готов тут же дать пояснения, обнаруживающие его глубокую созвучность автору, из-за чего Бодлер и посвятил ему «Цветы зла». Выбор антиклассического стиля стал самым рискованным ходом Бодлера на литературной шахматной доске. Объясняя его суть, Готье избегает высказываться о поэтике Рафаэля, греков или Гомера, а просто цитирует рассуждения Бодлера о двух типах женщин. Вот она, парижская свобода от предрассудков, к которой стремился Ницше, но так и не достиг. На все есть ответ в словах Бодлера: «Две жены предстают моему воображению: одна — сельская матрона, отвратительно здоровая и добродетельная, ни ступить, ни взглянуть не умеет, словом, всем обязанная одной лишь природе; другая — из тех красавиц, что покоряют и гнетут душу, сочетая подлинное, самобытное очарование с красноречием наряда; она — полная госпожа своих движений, сама себе царица, сознающая свою силу, голос ее звучит, как верно настроенный инструмент, а глаза полны мысли, но вы прочтете в них лишь то, что она сама соизволит открыть вам. Вряд ли я стал бы колебаться в выборе, однако найдутся педантичные сфинксы, которые непременно упрекнут меня за непочтительность к классическим образцам»[183].
Организовав выставку «Дегенеративное искусство», нацистский режим не только не изобрел ничего нового, но и позаимствовал темы, которые благовоспитанные европейцы обсуждали уже несколько десятилетий. Один из весьма авторитетных эссеистов конца века, Макс Нордау, выпустил в 1892 году в Берлине два объемных тома под названием «Entartung [Вырождение]»; их главной целью было показать, в какой мере fin de siècle оказался под угрозой болезненной тенденции искусства и культуры в целом — тенденции считавшейся признаком вырождения. В связи с этим правильнее было бы говорить не о «конце века», а о «конце расы». Вскоре многие почувствуют на себе его последствия.
Как сообщал Нордау в предисловии к своему труду, термин породило то, что с несокрушимой доверчивостью полагает себя наукой, в частности, мы обязаны им Чезаре Ломброзо, который «гениально разработал понятие о вырождении». Нордау досталась задача применить его, причем уже не к миру преступников и проституток, а к культуре. Список подозреваемых и тех, чья вина уже не вызывала сомнений, оказался невероятно длинным и во многом совпадал с тем, который несколько десятилетий спустя составил Дьёрдь Лукач в своем «Разрушении разума». Различна лишь аргументация, которую Нордау почерпнул из психиатрии, а Лукач — из классовой борьбы. Вполне сопоставим и накал негодования. Нордау главным представителем и провозвестником вырождения в любой форме считал Бодлера. Остальных — например, Вилье де Лиль-Адана и Барбе д’Оревильи — можно было мгновенно узнать по сходству с ним, так сказать, по «общей семейной черте». То были многочисленные, коварные и неукротимые гребни вала Бодлер.
Краткая заметка в газете по недоразумению сообщила о смерти Бодлера с опережением на пятнадцать месяцев. Он не умер, но утратил способность связно говорить. Судя по всему, новость не особенно потрясла Париж. Но в Турноне, в сердце самой мрачной из французских провинций, молодой преподаватель английского Стефан Малларме, прочитав газету, провел два дня в глубокой печали («О что это были за дни!» — писал он Анри Казалису).
У Малларме даже фривольность была священнодейственной. Бодлер, напротив, превращал патетику во фривольность. Обоих жизнь изрядно била, но Бодлер получал бесчисленные, беспорядочные колотые раны, Малларме же постоянно пребывал под удушающим гнетом. Обоих, в отличие от их предшественников Готье и Гюго, терзали метафизические предзнаменования. Но только Бодлеру была доступна область чистейшего пафоса, свободная от всякой сентиментальности, отраженная в «Маленьких старушках» или «Прохожей».
Уже разбитый параличом и пишущий «неразборчиво», Бодлер продиктовал Гюставу Мийо письмо с последним указанием о внесении правки в стихотворение. Ему хотелось, чтобы в «Далеко отсюда», одном из самых легких, самых лиричных стихотворений, где каждый слог дышит чувственностью, последняя строка была отделена тире, «чтобы передать в ней уединенность, рассеянность». Вот так: «— Цветы льют где-то мед густой»[184].
Просьбы денег (бесконечные), все более ожесточенные жалобы на несчастье; встречи украдкой, дерзости от случая к случаю… Таким для Каролины на протяжении двадцати с лишним лет был ее сын Шарль. А сколько гадостей говорили ей про него наезжавшие в Онфлер офицеры-артиллеристы, друзья почившего генерала Опика.
Но после смерти Шарля с ней произошла неожиданная перемена. Это случилось, когда она получила письмо с соболезнованиями от Сент-Бёва. «Письмо, взбудоражило ее», — сообщил Асселино Пуле-Маласси. Свойственным ему вкрадчивым, проникновенным тоном нашептав «краткий реквием», Сент-Бёв, понедельничный критик, академик, сенатор, представил ей неопровержимое доказательство того, что сын ее Шарль существовал в действительности. Отныне все мысли Каролины заняты только им. Подле нее полукругом сидели дамы, ведшие привычные разговоры, в которые сама Каролина годами вносила весомый вклад. Ее письмо Асселино, старому верному другу ее сына, написано в выражениях покинутой любовницы: «Меня не интересует ничто, кроме того, что связано с памятью о нем. Порой мне приходится, чтобы не быть невыносимой для моих знакомых, ценой невероятных усилий делать вид, будто я слушаю, проявлять интерес к разговорам, в то время как сердце мое занято им одним, и только ему принадлежу я безраздельно».