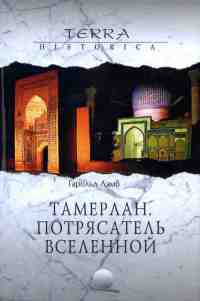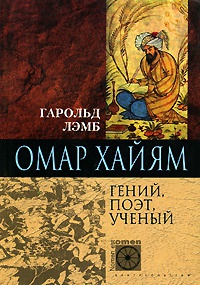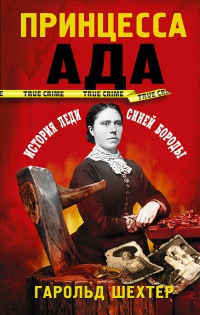Книга Западный канон. Книги и школа всех времен - Гарольд Блум
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Когда Гётевы чудовища начинают говорить, даже их скверный нрав внушает нам не больше трепета, чем дурные манеры фантастических созданий из «Алисы в Зазеркалье». В классической Вальпургиевой ночи достаточно ребячества, чтобы превратить любое демоническое существо в очередной гротеск. Так, сфинксы здесь — не привычные гранитные сановитые фигурами с девичьими лицами и львиными туловищами, а говорливые старые рассказчики, по-прежнему, впрочем, загадывающие умные загадки. Легендарные Сирены никого никуда не заманивают и не слишком хорошо поют, а ламии, которым положено быть жуткими вампирами, — всего лишь перетянутые корсетами, накрашенные провинциальные потаскухи, сохранившие, впрочем, способность в чужих объятиях превращаться в нечто весьма неприятное.
Ни одно из Гётевых чудовищ им не умалено; даже в своих гротескных обличьях они сохраняют великолепие и яркость, но нас как-никак представляют Фауст, одержимый мыслью об отсутствующей Елене, и Мефистофель, который злобнее всех, кого встречает. Мы видим глазами Мефистофеля потому, что он единственный из всей троицы ищет не удовлетворения желаний, а ощущений — любых, которые может испытать. Он, разумеется, ничего особенного не испытывает, мыкается без дела, теряется и в конце концов набредает на Гомункула, который ведет его послушать[309] спор двух философов-досократиков, Фалеса и Анаксагора.
Фалес, безмятежный и кажущийся мудрым, утверждает, что вода есть первоэлемент; он не замечает событий Вальпургиевой ночи. Анаксагор, апостол огня, — апокалиптически настроенный революционер наподобие Блейкова Орка или реальных визионеров, вызвавших к жизни Французскую революцию. Анаксагор распростирается на земле, славя Гекату и виня себя в катаклизме, так что пальма первенства явно полагается добродушному, пусть и слишком похожему на Панглосса, Фалесу.
Прежде чем классическая Вальпургиева ночь дотянется через многая трудности до конца, троих наших воздухоплавателей постигнет весьма разная судьба. Мефистофелю, брюзгливейшему из немецких туристов, так и не удастся повеселиться на греческом шабаше ведьм. Фрустрированный коварными ламиями, бедный Дьявол натыкается на по-настоящему омерзительных Форкиад, трех ведьм с одним глазом и одним зубом на троих. Они так уродливы, что Мефистофель не может на них смотреть, но в какой-то момент узнает, что они — его сестры, рожденные, как и он, Ночью и Хаосом. Признав их, он уподобляется одной из трех и в безобразном образе греческой богини покидает Фарсальские поля и отправляется в Спарту дожидаться возвращения Елены.
Тем временем Фауст сходится с Хироном, благожелательным скептиком, который решает излечить его от одержимости Еленой, отвезя к Манто — дочери Эскулапа, прообраза всех врачей. Но она — не рационалист-редукционист, а орфик-романтик, и, узнав в Фаусте нового Орфея, отводит его, как некогда Орфея, к Персефоне, на этот раз чтобы увести от нее Елену, а не Эвридику. Лукавейший Гёте решил не сочинять сцены встречи Фауста с Персефоной, и нам остается воображать ее самим.
Вместо этого Гёте вложил свою творческую силу в историю Гомункула, которому судьба не сулила пережить классическую Вальпургиеву ночь. Стремясь к полноценному существованию вне своей колбы, человечек выдерживает спор Фалеса с Анаксагором, но не выносит из него полезного совета. Вдвоем с благожелательным Фалесом они идут смотреть на прекраснейшее Гётево творение — своего рода барочный водный карнавал с участием Сирен (тут отчасти реабилитирующихся), нереид и тритонов. Мы оставляем Фарсалу с ее чудовищами и оказываемся среди освещенных луной бухт Эгейского моря.
В Самофракии мы попадаем в царство кабиров, причудливых божков, которые «сами себя производят, не зная, / кто они сами»[310]. Гёте не разъясняет, что такое эти несведущие карлики на самом деле — горшки из обожженной глины, превозносимые несведущими учеными, или могучие божества, спасители жертв кораблекрушения. Но, кем бы они ни были, в их честь морские существа устраивают торжественное шествие, и значение имеет именно это художественное действо. Его венец — краса океана Галатея, которую дельфины привозят из ее дома в Пафосе — месте культа Афродиты. Галатея, причина самопреодоления и самоуничтожения Гомункула, в глазах Гёте — образ всецело положительный.
Зато неоднозначен Протей, мастер вводить в заблуждение и уходить от ответа, но в то же время — правдивый прорицатель, знающий все о времени и его тайнах. Насмешник над всеми человеческими устремлениями, этот веселый морской старец отчасти подобен ребенку; по замечательной иронии Гёте, он дает Гомункулу лучшие и в то же время опаснейшие советы о том, как жить и что делать[311]. Бросайся в море, советует Протей, чтобы приобщиться к бесконечному превращению, но не думай достичь человеческого положения. Лучшие из людей, Ахилл и Гектор, попадают в Гадес. Лучше кружиться, как кружится море, принять жизнь без личной смерти, которой подвержен человек.
Слышим ли мы в словах Протея голос постаревшего Гёте — ведь этот поэт на протяжении всей своей жизни переменял душевные обличья? Или Гёте вложил себя в другого философа-пророка, Нерея, который проповедует смирение желаний, но пользуется для этого наречием Эроса? Когда его дочери, дориды, предводительствуемые Галатеей, просят его даровать бессмертие юным матросам, которых они спасли и полюбили, он отказывается, и в его словах отчетливо звучит нажитая Гёте мудрость в чувственных делах: «Когда пройдет (любви) похмелье, / Верните на берег их вновь»[312]. Смирение превозносится вновь, когда Нерей и Галатея, которых, как Лира с Корделией, связывает всепоглощающая отцовско-дочерняя любовь, обмениваются одним взглядом, одним возгласом приветствия и радости — и дельфины уносят Галатею еще на год.
Это восхваление смирения, столь важное для старого Гёте, создает двоякий фон для страсти Гомункула. Утомленный своим замкнутым существованием, алхимический даймон решает, что должен выбирать между огнем, своей родной стихией, и инаковостью воды. Не получив от Нерея внятного руководства к действию, он отправляется верхом на Протее к процессии Галатеи. Мастурбационная кульминация эротического поиска проникнута гётевской иронией. Разлетевшись, Гомункул гибнет у ног Галатеи: «Пылает огонь то сильней, то слабее, / Как будто приливом любви пламенея»[313]. Предмет этой любви — Галатея, бедный же Гомункул остается единственным ее «участником», пока, наконец, его колба не разбивается о трон. Пламя, самая его жизнь, вытекает в волны, в тот же миг преображая их. Сирены запевают, а все прочие морские создания подхватывают торжественный гимн, провозглашая победу Эроса. Гёте, несомненно, согласен с ними, но действо, которым кончается классическая Вальпургиева ночь, означает нечто куда большее, чем смирение. В оккультном изображении отделенного от тела человеческого разума уничтожается рассудок и тем самым отдается очередная дань Эросу. Характерная для Гёте амбивалентность не позволяет нам остановиться на той или иной оценке этой утраты; двоякое отношение старого поэта к его доктрине смирения желаний под конец второй части «Фауста» лишь упрочится.